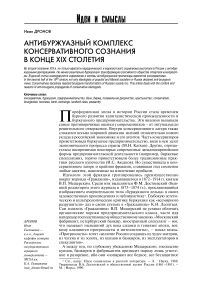Антибуржуазный комплекс консервативного сознания в конце XIX столетия
Автор: Дронов Иван Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
Во второй половине XIX в. не только идеологи народнического и марксистского социализма выступали в России с антибуржуазными декларациями. Не менее решительно буржуазную трансформацию российского общества отвергали консерваторы. В данной статье анализируются содержание и мотивы антибуржуазной пропаганды идеологов консерватизма.
Консерватизм, буржуазия, предпринимательство, банк, биржа, крестьянство, поземельное дворянство
Короткий адрес: https://sciup.org/170165864
IDR: 170165864
Текст научной статьи Антибуржуазный комплекс консервативного сознания в конце XIX столетия
П ореформенная эпоха в истории России стала временем бурного развития капиталистической промышленности и буржуазного предпринимательства. Эти явления вызывали самые противоречивые оценки у современников – от энтузиазма до решительного отвержения. Внутри консервативного лагеря также сложился весьма широкий диапазон мнений относительно нового уклада в российской экономике и его агентов. Часть консерваторов приветствовала буржуазное предпринимательство, видя в нем залог экономического прогресса страны (М.Н. Катков). Другие, отрицательно воспринимая некоторые современные западноевропейские формы предпринимательской деятельности (например, биржевые спекуляции), горячо приветствовали более традиционные практики русского купечества (И.С. Аксаков). Но существовала в консервативном лагере и крайняя фракция, ставившая под сомнение любые занятия, нацеленные на извлечение прибыли.
ДРОНОВ Иван
Евгеньевич – к.и.н., доцент кафедры истории Российского государственного аграрного университета – МСХА им.
Идеологи этой фракции группировались преимущественно вокруг журнала «Гражданин», издававшегося в 1872–1914 гг. князем В.П. Мещерским. Среди них выделяются Ф.М. Достоевский (бывший редактором этого журнала в 1873–1874 гг.), прославившийся изображением омерзительного типа «буржуазного дельца» в своих художественных произведениях и публицистике1. Глубокую эстетическую и культурологическую критику буржуазии как «всемирного разрушителя» дал в своих статьях в «Гражданине» К.Н. Леонтьев. Сам издатель «Гражданина» В.П. Мещерский не уставал обличать органические пороки предпринимательского класса, часто идя наперекор господствующему общественному мнению. «Московский фабрикант, петербургский банкир, иностранный спекулянт – вот, что называет нынешний дух века силами и гениями эпохи, вот, кому кланяются прогрессисты и интеллигенты», – писал князь. «Прогрессисты» хотят «величие России создавать из чудес материи, из чугуна и из золота, из купцов и банкиров, из эксплуататоров и спекулянтов».
А между тем, по глубокому убеждению Мещерского, господство купцов, банкиров и фабрикантов приносит народу лишь угнетение и разорение, ибо они «попирают все бедное, все беззащитное во имя наживы». Являя собой воплощение «наглости капитала», они на русской почве воспроизводят американский тип бизнесмена, т.е. «людей, у которых душа есть телесная смесь мозгов, брюха и кармана, слитых в одно существо». Князь высказывался против «чествования не жизни и не полезности труда на земле, а только капитала» и против «обычаев, в силу которых какой-нибудь купеческий дом, торговавший 100 лет под одною фирмою, жалуется в дворянское достоинство, и единственною тому причиною есть столетнее наживание огромных барышей, без всякого отношения к вопросу о жизни, о качествах, о чести и о полезности лица»1.
Идущая на смену дворянству буржуазная масса изображалась Мещерским деструктивной силой, не способной ни к какому социальному творчеству и созиданию. Он иронически отзывался о потенциях «промышленно-торговой среды»: «Да какая же там среда , помилуйте? Там есть сплоченность между торговцами и промышленниками, когда нужно отстоять свою жирную наживу – это да, но там же, в этой среде , каждый купец и каждый промышленник не только другому не помогает, но об одном только и думает, как бы соседушку подвести, объегорить или потопить… Там главного нет условия среды: это солидарности и братства во имя чести своей среды»2. Потому-то утверждение рыночно-капиталистических отношений и господствующих позиций буржуазии в обществе грозят ему распадом и деградацией: «Государство, где предания сменят инстинкты материи и наживы, где фабрики будут одевать, а железные дороги возить массы беспринципных людей, где школы будут учить наукам и презирать предания, где Пожарских заменят Разуваевы и их холопы, где войско будет в руках офицеров без преданий дворянства, – такое государство неизбежно будет идти к своей погибели»3.
Особенно плачевные последствия вторжение буржуазного предпринимательства оставляет, по мнению Мещерского, в главной для России отрасли экономики – в сельском хозяйстве. «Купец- землевладелец, – утверждал Мещерский, – живет только для себя и смотрит на крестьян, как на источник беспредельной эксплуатации, не только вне законов политической экономии, но вне законов человеколюбия». Хозяйничанье буржуазных дельцов оказалось пагубным для крестьян, ибо «Колупаевы и Разуваевы в состоянии разорить любое самое богатое и патриархальное сельское общество в два-три года так, что его потом и в сто лет не воскресишь». И эту «кабалу у кулака» Мещерский рассматривал как «новый вид крепостного права». Князь был уверен, что интересы капиталиста и крестьянина противоположны и непримиримы, ведь капитализм в своем предельном развитии ведет к уничтожению традиционного крестьянского уклада, к превращению крестьянства в пролетариат: «Я убежден в том, что разорение дворянства будет иметь последствием полное разорение народа и понижение его нравственного уровня посредством закабаления его в цепях фабриканта и хищника на земле» 4.
Точно так же губительно воздействуют на благосостояние народа и другие формы предпринимательской деятельности: фабрично-заводская промышленность, железнодорожное строительство, банковская деятельность. «Есть у нас губернии, – писал Мещерский, – где фабричный промысел уже повлиял, как язва, вытравил всю самобытность русского крестьянина, погубив его семейную жизнь, оторвал от матери-земли и образовал из него фабричного пролетария». В особенности возмущали Мещерского частновладельческие железные дороги, «опираемые на концессии как на конституционные хартии и неприступные в этих крепостях». Эти частные дороги, полагал князь, «все крепче водворяют свое безобразное царство в России и с каждым годом увеличивают вероятие катастрофы и приближения к несостоятельности». В 1860–1870-х гг. концессионная деятельность железнодорожных предпринимателей явилась инструментом гигантского «хищения под покровом водворения на Руси экономической свободы». Поэтому разрушить этот частнокапиталистический бастион, этот status in statu, вырвать из рук «шайки эксплуататоров» стратеги- ческую отрасль – священная обязанность правительства.
Коммерческая деятельность частных кредитных учреждений также вызывала у Мещерского сомнения в своей добросовестности и благонамеренности. «Я понимаю, – писал князь, – что банки могут и должны ловить всякие минуты для своих барышей, но я не допускаю, чтобы банки, ради барышей, создавали эти минуты искусственно и умышленно, рассчитывая на глупость публики, и не допускаю этого именно потому, что они – банки , а не какие-нибудь притоны жидовских гешефтмахеров, не брезгающих никакими средствами для легкой наживы»1. Согласно воззрениям Мещерского, «у банков есть и не может не быть свой кодекс нравственных обязанностей, своя честность, свое нравственное достоинство». Однако, считает он, «наши банки предпочли роль искателей наживы не только в приключениях, но даже в лукавых толках, и одурачивали публику с полнейшим уже к ней презрением». Это не только аморально, но и в долгосрочной перспективе грозит саморазрушением финансового рынка, экономическим кризисом и неизбежными политическими потрясениями. «Биржевая эпоха теперь у нас ненормальна, – констатировал князь в период грюндерской лихорадки середины 1890-х гг., – ее можно назвать скорее всего болезненною. Болезнь заключается в дуто-сти всех почти цен на бумажные спекулятивные ценности… »2
Мещерский был твердо убежден, что «банки, биржи и вообще частная предприимчивость живет и богатеет за счет полного бессилия внутренней производительности». Ни буржуазия, ни инструменты рыночного хозяйства не имели в глазах князя оправдания. Но чем же можно заменить буржуазное предпринимательство в качестве двигателя экономического развития? По убеждению Мещерского, только самодержавным государством, которое должно: 1) сосредоточить в своих руках все финансовые операции; 2) с помощью налоговой и таможенной политики создать условия для процветания помещичьего землевладения, а не фабрично-заводской промышленности; 3) вместо железнодорожных путей, втягивающих Россию в мировой рынок, развивать локальные рынки посредством развития шоссейных дорог.
Искомый идеал устройства государства, общества и экономики издатель «Гражданина» видел в доиндустриальном прошлом: «Дореформенная Россия была официально признаваема земледельческим государством, и весь ее строй был приспособлен и приноровлен к главной промышленности – земледелию. Все власти от министров до уездных исправников были из тех же вотчинников-помещиков, а потому им не чужды были интересы земледельца. Финансовый строй государства был строго правительственный, и не было тогда места для частного хищника и разорителя , которых ныне такое изобилие, и коих достойно представляет собою: земельные и другие частные банки, ломбарды, ссудные общества и кассы и всякие другие учреждения, разоряющие народ во имя важной доктрины, признающей свободу капитала и именем этой “свободы” водворили экономическую анархию и рабство населения фиктивному, в сущности, капиталу»3.
Утопичность подобных проектов как будто очевидна. Однако в конце XIX в. современникам не менее утопичными казались и проекты различных социалистических теоретиков – таких же неистовых критиков капитализма слева, каким был князь Мещерский справа. Это, однако, не помешало социалистической утопии в условиях системного кризиса мирового капитализма сделаться реальностью в России в начале ХХ столетия и распространить свою модель социального устройства на полмира. Сопутствующие капиталистическому способу общественного производства циклические кризисы, грозящие обернуться очередным всемирным катаклизмом, побуждают внимательнее приглядеться к предлагаемым критиками капитализма альтернативам, в т.ч. и к наработкам русских консерваторов рубежа XIX–XX вв., в свое время оставшимся невостребованными.