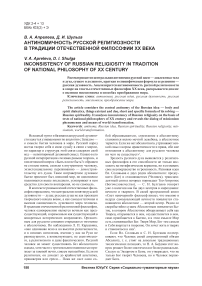Антиномичность русской религиозности в традиции отечественной философии XX века
Автор: Апрелева Виктория Александровна, Шульга Дмитрий Иванович
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 1 т.13, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается центральная антиномия русской идеи-диалектика тела и духа, сущего и должного, краткая и специфическая формула ее решения -русская духовность. Анализируется антиномичность русской религиозности в опоре на тексты отечественных философов XX века, раскрывается диалог о явлении миссионизма и способах преображения мира.
Антиномия, русская идея, русская духовность, русская религиозность, миссионизм, преображение мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147150856
IDR: 147150856 | УДК: 2-4
Текст научной статьи Антиномичность русской религиозности в традиции отечественной философии XX века
Исходный пункт и базовая идея русской духовности кажутся узнаваемыми по аналогии с Западом — о смысле бытия человека в мире. Русский народ всегда творил себя и свою судьбу в связи с миром, но характер и структура этой связи содержит свой код — неповторимый духовный смысл. Однако в его русской интерпретации «человек раньше теории», и гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» обращен не столько вовне, сколько к внутреннему человеку, экзистенциальному переживанию — домостроительству его души. Такое интравертное духовное бытие приемлет быт, внешний мир, но однозначно поднимается выше последнего, усматривает в нем средство для своего воспарения, но не самоцель.
В контексте размышлений отечественных философов определяем, что центральное понятие русской духовности — душа; русская душа не как проекция творческого начала вовне, а как самодостаточная и высшая самоценность душевного мира человека. В традиции отечественной религиозной философии, человек одновременно является вечным как пред-существующий, и временным как существующий в конкретных исторических координатах. Органичным для русского сознания открывается тяготение к абсолютному. По наблюдению Л. П. Карсавина, «оно одинаково ясно и на высотах религиозности, и в низинах нигилизма, именно у нас на Руси не равнодушного, а воинствующего, не скептического, а религиозного и даже фанатического. Русский человек не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью признает за таковой нечто, совсем неподобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, правоверия или ереси… Пока же «все само со- бой образовывается», стремление к абсолютному становится вялою мечтой лежебока, а абсолютное теряется. Если же нет абсолютного, утрачивают всякий смысл нормы нравственности и права, ибо вне отношения к абсолютному для русского человека ни чего не существует»1.
Зрелость русского духа выявляется у религиозных философов в его способности не только восходить на метафизические вершины, но и сознавать свое несовершенство и греховность. Развивая идеи Вл. Соловьева о двух родах абсолютного: предсу-щего (Бог) и становящегося (Человек), трансцендентный синтез которых порождает Тео-Антропос (Богочеловечество), — С. Н. Булгаков говорит уже о наличии как бы двух центров в мироздании: вечного и тварного. В своей программной книге «Свет невечерний» философ пишет, что именно в недрах самодовлеющей вечности появляется становящееся абсолютное — второй центр. Рядом со сверхбытийно сущим Абсолютным появляется Бытие, в котором Абсолютное обнаруживает себя как Творец, открывается в нем, осуществляется в нем, само приобщается к Бытию, и в этом смысле Мир есть становящийся Бог. Творя Мир, Бог тем самым и Себя ввергает в творение. Он хочет жить в тварях и становиться в них2.
Если Вл. Соловьев и С. Н. Булгаков подчеркивают, что Человек своей антропогонией обязан Абсолюту, т. е. стоят на довольно традиционных теологических позициях, то Н. А. Бердяев этот вопрос решает более мистически и более радикально. Следуя за Экхартом и Беме, он утверждает, что не только Бог творит Человека, но и Человек порождает Бога.
Таким образом, не только антропогонический процесс можно понимать как составную часть процесса теогонического, но и теогонию вполне продуктивно рассматривать как часть антропогонии.
Уже неоднократно звучали аргументы, определяющие антиномичность русской души. Этот феномен можно объяснить как совокупностью объективных факторов, так и внутренними, субъективными свойствами. К первым относятся парадоксы экологического многообразия, аритмия пассивности и сверхнапряжения экстенсивного хозяйствования, спонтанность высвобождения жизненной энергии как сублимации безмерно терпеливого психологического «подполья».
Важно заметить, что решающее воздействие на саму жизнедеятельность русского народа оказали не только противоречивость его характера, его ментальности, но и его противоречивое отношение к Христианству, сама противоречивость его религиозности. Можно сказать, что в русской религиозности между чистой, глубокой и полной верой, между цельным погружением духа в недра церковно-религиозного бытия и пустотой нет ничего промежуточного. Русский человек либо имеет в своей душе истинный «страх Божий», подлинную религиозную просветленность, либо он исповедует нигилизм — неверие в духовные начала и вседозволенность, отрицание духовных первооснов общественной и частной жизни. Чрезвычайно точно суть нигилизма выразил Вяч. Иванов: «Основная черта нашего народного характера — пафос совлечения, жажда совлечься всех риз и всех убранств, и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правды вещей. С этою чертой связаны многообразные добродетели и силы наши, как и многие немощи, уклоны, опасности и падения. Здесь коренятся: скептический, реалистический склад неподкупной русской мысли, ее потребность идти во всем с неумолимоясною последовательностью до конца и до края, ее нравственно-практический строй и оборот, ненавидящий противоречие между сознанием и действием, подозрительная строгость оценки и стремление к обесценению ценностей».
Противоречивость русской религиозности Н. А. Бердяев объясняет тем, что мужественный вселенский логос — дух Христов — пленен в России женственной национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности. Русская религиозность, по определению Н. А. Бердяева, — «женственная религиозность». Как пишет философ, «это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освещающего плотский быт... Россия — страна богоносная. Такая женственная, национальностихийная религиозность должна возлагаться на мужей, которые берут на себя бремя духовной активности, несут крест, духовно водительствуют… Русский народ в массе своей ленив в религиозном восхождении, его религиозность равнинная, а не горная; коллективное смирение дается ему легче, чем религиозный закал личности, чем жертва теплом и уютом национальной стихийной жизни. За смирение свое получает русский народ в награду этот уют и тепло коллективной жизни. Такова народная почва национализации церкви в России»3.
Русские мыслители не только анализировали свойство религиозности, сам характер духовности русского человека, но и предлагали своего рода «рецепты», по спасению и обновлению русского архетипа зрелой личности.
Для Вяч. Иванова единственная сила, организующая Хаос русской души — есть свободное и цельное принятие Христа, как всеопределяющего начала духовной и внешней жизни. Нисхождение божественного Света в глубину нашей души, ищущей просветления и любви — вот формула одухотворенная и оживления народной психологии. Божественное ниспосылает свет свой в темное вещество, чтобы и оно было проникнуто светом. Здесь тайна Второй Ипостаси, тайна Сына. «Семя не оживет, если не умрет». « Vis eius Integra, si versa fuerit in terram »: целою сохранится сила его, если обратится в землю. Эти таинственные заветы кажутся мне начертанными на челе народа нашего, как его мистическое имя: «уподобление Христу» — энергия его энергий, живая душа его жизни. Императив нисхождения, его зовущий к темной земле, его тяготение к этим жаждущим семени светов глыбам определяет его, как народ, вся подсознательная сфера которого исполнена чувствованием Христа»4.
Вяч. Иванов, убежденный в том, что христианская идея составляет природу русской души, и что смысл этой идеи — категорический императив нисхождения Света и воскресения, — определяет условия правового нисхождения: «На языкe мистиков они означаются словами очищение ( χάΘαρσις ), научение ( μάΘησις ) и действие ( πραξις ) …при соблюдении первых двух условий здесь нисхождение становится не только действенным, но и правым нисхождением во имя Бога, несомненно плодотворным и воскресительным, — нисхождением света, которого не обнимет тьма5.
Г. П. Федотов видит возрождение России посредством одухотворения всего мира культуры и полагает, что для этого нужен глубокий переворот в самой культуре и ее понимании. «Культура должна быть понятна религиозно, или она будет растоптана тяжелым сапогом демагога, — пишет Федотов. — ... Воскрешение ее требует прежде всего воспитания духовной иерархии ценностей и потом уже социального воспитания и организации, ей соответствующих. «Ищите прежде всего Царства Божия»6.
Эту потребность просветления, обожения русской души отечественные мыслители часто сопоставляли с ее религиозным самосознанием, перерастающем в веру «святости аскетического подвига» русского человека, богоизбранности русского народа, особой его мессианистской роли в мировой истории.
Е. Н. Трубецкой вступает в интереснейшую полемику с Н. А. Бердяевым по вопросу «о старом и новом национальном мессионизме». Так, последний утверждал, что мессианское сознание, есть универсальное сознание избранного народа Божьего, в котором должен явиться Мессия и через который должен быть мир спасен. Полагая, что все народы проходят через мессианское сознание, философ убежден:
Философия и социология
«Христианское мессианское сознание может быть лишь сознанием того, что в наступающую мировую эпоху Россия призвана сказать свое новое слово миру, как сказал его уже мир латинский и мир германский. Славянская раса, во главе которой стоит Россия, должна раскрыть свои духовные потенции, выявить свой пророчественный дух. Славянская раса идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль, уже склоняющимся к упадку; это — раса будущего»7.
При этом Трубецкой вопрошает: какие же основания есть у Н. А. Бердяева утверждать такой завет между Богом и Россией? От эмпирического обоснования своей веры в «народа-богоносца» он отказывается, и в этом он, разумеется, совершенно прав: фактами вообще невозможно ни обосновать, ни опровергнуть религиозную веру, тем более в данном случае, когда вследствие великого множества фактов отрицательных вера в «народ-Мессию», по признанию ее собственных сторонников, подвергается «огненному испытанию». Вместо того, Н. А. Бердяев мечтает об обосновании мистическом. Трубецкой в полемике с Бердяевым ярко выражает свою, отличную от бердяевской, позицию относительно русской национальной идеи. Он утверждает: «В общем наш национальный мессианизм выражает собою довольно близкое к этому пожелание, чтобы наша мать-Россия сидела в Царстве Божием по правую руку Спасителя. Существо дела, разумеется, не меняется от того, для сынов или для матери мы домогаемся этой чести. Ответ Спасителя остается все тот же. «Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть первым да будет вам рабом» (Матф. XX, 25—27)»8.
Трубецкой убежден в том, что где есть истинный мессия, там, нет места спорам о первенстве ни между людьми, ни между народами. Каждый народ, как и каждый человек, должен думать лишь о своих обязанностях и о своем служении, а не о своих преимуществах перед другими народами. Тем самым, вопреки Н. А. Бердяеву, у Трубецкого оправдан не мессианизм, а миссионизм по отношению к нациям. У каждого народа свое служение, свое призвание и своя миссия в Царстве Божием. Философ, таким образом, призывает отказаться от всего, что ограничивает и суживает общенародное мессианство.
Е. Н. Трубецкому удалось гениально просто и емко выразить процесс становления духовного бытия русского человека. С конца XIX в. он идентифицирует себя не только с национально-русским, но общечеловеческим, сопричастным к высшим смыслам рода Человеком. Объективность такого измерения доступна верификации не только в контексте общепризнанного воздействия великой русской культуры на мировую, но и путем воспроизведения четко артикулированного русскими мыслителями общечеловеческого самосознания.
Таким образом, антиномичность русской религиозности — продукт синтеза ряда обстоятельств — от экологических до геополитических. Корень такого феномена — в сплаве христианства и язычества. Русский человек изначально отвергал индивидуализм, социальный «атомизм» и прошел долгий и драматический путь от общинного менталитета к соборному сознанию, в котором личность, свободно реализуя себя, осуществляет и общественные интересы. Широта русского человека, как продукт влияния необъятного российского жизненного пространства и универсальных связей с миром различных культур, сфокусировалась в его самосознании, спровоцировав появление антиномичности в его характере и в структуре религиозности. Интерпретации этой противоречивости колеблются от всеядности и «беспочвенности», через осознание общечеловеческого, до мессианизма народа — «богоносца» и мутации в экспансионистское миссионерство.
Список литературы Антиномичность русской религиозности в традиции отечественной философии XX века
- Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея//Русская идея. -М.: Мысль, 1992. -С. 322-323.
- Булгаков С. Н. Свет невечерний. -М.: Наука, 1994. -С. 170.