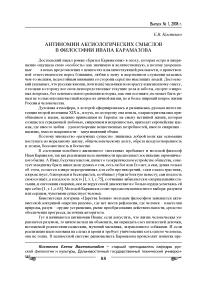Антиномии аксиологических смыслов в философии Ивана Карамазова
Автор: Костенко Е.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Проблемы истории и теории в дальневосточном изобразительном искусстве и культурологии
Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170175114
IDR: 170175114
Текст статьи Антиномии аксиологических смыслов в философии Ивана Карамазова
АНТИНОМИИ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВВ ФИЛОСОФИИ ИВАНА КАРАМАЗОВА
Достоевский писал роман «Братья Карамазовы» в эпоху, которая остро и напряженно ощущала свою «особость» как значимую и величественную, а потому укорененные в веках представления о ценностях и наличествующей реальности, о нравственной ответственности перед ближним, любви к нему и жертвенном служении казались чем-то мелким, недостойным внимания со стороны серьёзно мыслящих людей. Достоевский указывает, что русские юноши, почти ещё мальчики по возрасту и жизненному опыту, отложив в сторону все свои непосредственные текущие дела и заботы, спорят о мировых вопросах, без основательного решения которых, как они осознают, не может быть решен не только ни один частный вопрос из личной жизни, но и более широкий вопрос жизни России и человечества.
Духовная атмосфера, в которой сформировалась и развивалась русская интеллигенция второй половины XIX в., и путь, по которому она пошла, охарактеризовались приобщением к идеям, недавно пришедшим из Европы: на смену истинной жизни, которая созидается страдающей любовью, смирением и искренностью, приходят европейские идеалы, где вместо любви - удовлетворение вещественных потребностей, вместо смирения -насилие, вместо искренности - запугивающий обман.
Поэтому множество «разумных существ» лишились доброй воли как основания поступать по моральному закону, общечеловеческому долгу, обретя неодухотворенность и эгоизм, бессовестность и бесчестие.
В состоянии подобного жизненного «негатива» пребывает и молодой философ Иван Карамазов, так как реализация целезначимости предполагает достижение гармонического бытия. А Иван, будучи атеистом, пишет о теократическом устройстве общества, советует младшему брату никогда не думать о том, есть ли Бог или Его нет, а сам, думая только об этом, остается в мире неразрешимых для себя противоречий, «сам сладострастник, а юродствует, благороден и бескорыстен, а отбивает у брата богатую невесту; сам подлость свою сознаёт, а в подлость лезет» [1,т.1,с.75], с отчаяния забавляется и «журнальными статьями, и светскими спорами, сам не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя» [1,т.1, с.65]. Молодой Карамазов стоит пред актом ценностного выбора: разумом или сердцем, чувствами существует человек.
Квиетистская доктрина «Царства Божия» молодым философом заменяется активистской доктриной «царства разума», где нет места рефлексии, где человек - властелин природы, разум - орудие устрашения, рычаг преобразования действительности, средство обеспечения прогресса, источник авторитета.
Тут и начинаются антиномии Ивана: если допустить, что жизнь человеческая управляется разумом, то ничем нельзя ни объяснить, ни оправдать слез пятилетней девочки, истязаемой родителями-садистами, мучений мальчика, затравленного собаками. И если реализация идеи основана на слезах и крови и требует уничтожения хоть одного человека, она не годна. В ценностной системе рационалиста Карамазова происходит попытка пре-
Костенко Елена Валентиновна — старший преподаватель кафедры русской филологии и культуры, Дальневосточный государственный технический универси- одоления пропасти между «рациональным» и чувственным. Я.Э. Голосовкер, с точки зрения философской мысли, считает, что «Ивану легче отказаться от Божьего мира, чем от устроения жизни по разуму» [2, с. 45], так как аксиома, что человек - существо разумное, вошло в его плоть и кровь, поэтому нет Богов, а есть только сверхчеловеки, «всезнающие, непогрешимые, перстоуказывающие, символические грезы которых хотят быть не свидетелями, а демиургами, героями своего времени» [3, с. 149]! Протоиерей Владислав Свешников как религиозный деятель пишет, что «он «услышал» свое сердце сознанием, понял, что сердцем верит, а потом уже только логикой и умом отрицает веру» [4, с.259]. Мне думается, что здесь есть и другой подход. Если «ошибки ума», неизбежные на пути познания научной истины, чаще всего так и остаются теоретическими заблуждениями, то ошибки «практического разума», который, по Достоевскому, и есть не что иное, как сердце, управляющее механизмом телесного и духовного жизнеповедения, оборачиваются для человека роковым образом.
Таким образом, в статье рассматривается проблема аксиологических противоречий, и становится видно, что антиномии Ивана Карамазова приобретают аксиологические смыслы: теоретический разум (материализм, рационализм) и «практический разум» (сердце). В этих двух ответах на один и тот же вопрос формируется концепция ценностей в сознании героя Достоевского.