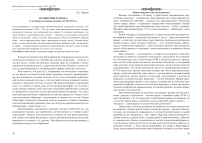Антиномии романа: из истории немецкой поэтики XVIII-XIX вв
Автор: Махов Александр Евгеньевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 3 (22), 2012 года.
Бесплатный доступ
Сосуществование и соперничество противоположных воззрений на роман в немецкоязычной поэтике XVIII - XIX вв. может быть представлено в виде системы антиномий. Описаны пять антиномий этого жанра: 1) в романе преобладает «художественное» повествовательное начало - «научное» исследование психологии героев и каузальных связей; 2) роман представляет собой модификацию древнего эпоса - нечто принципиально новое, пришедшее на смену эпоса; 3) роман объективен - роман субъективен; 4) автор романа активно проявляет себя - автор скрыт; 5) герой - основной предмет романного повествования или всего лишь техническое средство повествования, его «нить» (В. Алексис).
Роман, антиномии жанра, история немецкой поэтики
Короткий адрес: https://sciup.org/14914354
IDR: 14914354
Текст научной статьи Антиномии романа: из истории немецкой поэтики XVIII-XIX вв
В своей последней книге Натан Давидович Тамарченко описал поэтологические воззрения А.А. Потебни как систему антиномий - «тезисов» и «антитезисов», словно бы ведущих неявный спор. В «глубокой и многосторонней антиномичности»1, свойственной поэтике Потебни, следует видеть не противоречивость, но необходимую форму развития его мысли.
Мне кажется, что идея Н.Д. Тамарченко исключительно плодотворна: его анализ поэтики Потебни может оказаться моделью, применимой к другим явлениям из истории поэтики. И что, если антиномии определенной поэтологической системы в той или иной степени отражают антино-мичность, присущую поэтике в целом? Не имея возможности обосновать здесь эту гипотезу, укажем лишь на тот несомненный факт, что поэтика с самого начала заявила о себе как некая coincidentia oppositorum: в ней сразу проявились и вступили в спор противоположные воззрения. Так, уже в греческой протопоэтике утверждение поэзии как правды (у Гомера и Гесиода) дополнилось обратным - допущением ее лживости (у того же Гесиода и Пиндара); выдвинутое Платоном понятие мимесиса, ставшее ключевым для всей европейской традиции, сразу же получило противоположную интерпретацию у Аристотеля, и т.п.
Ограничившись материалом немецкой поэтики XVIII-XIX вв., мы попытаемся показать, как проявляется антиномичность в теории одного лишь жанра - романа: поэтологическое сознание по ходу развития романной теории постоянно балансирует между противоположными полюсами, примыкая то к одному, то к другому. Так образуются антиномии романа, к описанию которых мы и обратимся.
Повествование или исследование?
Базовое, восходящее к Платону и Аристотелю разграничение двух способов мимесиса - посредством повествования или (квази-)драматиче-ского изображения действий - казалось бы, предопределяло понимание нового жанра: роман - подражание посредством повествования. Однако уже самый ранний из рассматриваемых нами текстов - «Опыт о романе» Фридриха фон Бланкенбурга (1774, издан анонимно) - обманывает наши ожидания.
Роман отрывается Бланкенбургом от аристотелевской категории повествования: роман - не рассказ (в отличие от эпоса - «простого повествования» о событиях), но наглядное представление причинно-следственных связей в мире и душе человека. Романист - этот «внимательный наблюдатель человеческой природы» - умеет наглядно показать «ряд связанных между собой причин и следствий», «связь внутреннего и внешнего бытия персонажей»2.
Итак, романист - не рассказчик, но скорее исследователь; сама принадлежность романа к «изящной словесности» оказывается под сомнением. И в самом деле: ряд текстов конца XVIII в. свидетельствуют о стремлении если не отдать роман полностью в ведение психологии, то по крайней мере выделить в нем особую внехудожественную, чисто психологическую составляющую. Так, автор анонимной статьи «О драматическом романе» (1791) протестует против трактовки романа как чисто развлекательного жанра, «средства скоротать часы досуга»: для мыслящего человека роман представляется «цепью причин и следствий, позволяющих в результате разрешить психологическую проблему»3. Готлоб Натанаэль Фишер предлагает рассматривать роман в двух планах: «сначала как поэтическое произведение (Gedicht), согласно эстетическим правилам, а затем как прагматическое изображение вымышленных и истинных фактов, согласно правилам логики и психологии»4.
Негативная реакция на частичное подчинение романа психологическому дискурсу (психология - модная наука в Германии конца XVIII в.) ясно проявилась у Ф. Гельдерлина: в собственном романе «Гиперион» он «хотел бы скорее занять способность вкуса картиной идей и чувств <.. .>, чем разум - планомерным психологическим развитием»5.
Торжествует, конечно, воззрение на роман как на художественное повествование. Однако второй полюс антиномии (роман - научное психологическое исследование) удерживается в поэтологической памяти и порой пробивается на поверхность. Так, Герман Марггаф, преисполненный сознания новизны «нашей эпохи, устремленной к практическому», объявляет «наивностью» былое «удовольствие от чистой художественной формы»: «мы больше не люди искусства, но скорее люди политических дебатов, социальных учений...». Как некогда Бланкенбург, так теперь и Маргграф находит недостаточной категорию повествования: в романе есть нечто прин- ципиально иное - он «сумел прекрасно использовать способность к рассуждению (zu raisonniren), которая была заложена в нем изначально <...> он обладает бесконечной способностью к экспансии и с каждой новой фазой все больше расширяет себя в сферы политики, повседневной истории, философии, эстетики, науки...»6.
Вновь, как и в конце XVIII в., возникает проблема трансграничности романа, преодолевающего разделение художественного и научного.
Модификация эпоса или не-эпос?
Теоретики романа неизбежно должны были соотнести роман с эпосом как древнейшим повествовательным жанром. При этом роман то резко противопоставляется древнему эпосу, то рассматривается как его модификация: актуализировалась то стратегия разделения жанров, то, напротив, стратегия консолидации, объединения их в нечто единое. При этом сторонники разделения считали, что роман, будучи совсем иным жанром, «занял место» древнего эпоса: антиномия приобретает вид «роман - разновидность эпоса / роман - вместо эпоса».
Разделительная стратегия проведена в «Опыте о романе» Бланкен-бурга. Осторожно сформулированная аналогия между романом и древним эпосом («...Роман для нас является тем, чем для греков, соответственно был эпос») служит лишь отправной точкой для того, чтобы обосновать фундаментальное различие между жанрами, обусловленное историкоантропологически. Люди стали другими: античный человек - прежде всего член полиса, гражданин (Burger), современный - просто человек (Mensch). Соответственно, адресаты эпоса и романа - разные люди с разными интересами: грека занимали внешние события, современного человека - душевные процессы7.
Заданное Бланкенбургом разделение эпоса и романа воспроизводится в некоторых текстах романтиков (например, в «Письме о романе» Ф. Шлегеля). Вильгельм Гримм утверждает, что в современной (moderne) поэзии «роман в определенном отношении занял место эпоса»; однако если эпос, создававшийся в эпоху великих национальных идей (Nationalgesinnung), «соединял в целое отдельных людей», то роман возникает там, «где жизнь стала одиночной (einsam)», его предмет - характер и устремления «отдельного» человека8.
Много позже, в 1857 г, Фридрих Теодор Фишер в «Эстетике» повторяет туже комбинацию двух идей: 1) роман в современную эпоху занимает «место эпоса»; 2) «закон» романа особенный, отличный от «закона эпоса»: в эпосе «поэт постоянно ведет нас к внешнему, к явлениям», в романе центр тяжести переносится на «внутреннюю жизнь»; эпос пластичен, роман - «живопись души»9 и т.д.
Грань, которую Бланкенбург проводит между романом и древним эпосом, могла не ощущаться иными его современниками, более склонны-

ми консолидировать эпос и роман в нечто единое. Для них роман был не заменой эпоса, но его модификацией: современным (гражданским, бюргерским, социальным) эпосом. Так рассуждает Иоганн Карл Вецель: эпос и роман различаются лишь «тоном языка, характеров и ситуаций», однако в эпопее все «взвинчивается до идеала», а в романе все выдерживается «в настроении реальной жизни». Роман, сближенный с биографией и комедией, станет истинной «бюргерской эпопеей (biirgerliche Epopee)»10.
Определение романа как бюргерской эпопеи по отношению к Блан-кенбургу выглядит полемически: ведь последний связал эпос с гражданином (в его понимании слова Burger), а роман - с «отдельным» человеком. Способность жанра быть (или не быть) бюргерским (в данном смысле многозначного слова biirgerlich) на этом этапе, возможно, и выполняет роль ключевого признака, отделяющего роман от эпоса или объединяющего их в единое целое: признание за романом гражданской/социальной сущности предполагало его единство с эпосом, отрицание таковой предполагало разделение.
Г.В.Ф. Гегель, в лекциях по эстетике (1818-1828) также определивший роман как современную бюргерскую (biirgerliche - в данном случае скорее в смысле «общественный», «социальный») эпопею, придерживался объединительной стратегии. Сходство романа с эпосом им подчеркивается: изображение жизни в романе столь же многосторонне, как в эпосе; его предмет - весь мир (totale Welt); приветствуется обширность пространства действия (Spielraum) и т.д.11
Похоже, в дальнейшем развитии теории проблема соотношения романа и древнего эпоса теряет остроту, а возобладавшей оказывается точка зрения Гегеля. В. Алексис видит в романе «эпопею, снизошедшую до прозы»12, выражая расхожее представление.
Обрисованная антиномия никогда не принимала вид жесткой дилеммы; между крайностями существовал целый набор уклончивых, диалектических решений. От крайностей «уклонялись», в частности, динамические модели, в которых роман представал как эволюционирующий жанр, например, движущийся от эпоса к некоему высшему жанру (роду). Именно так понимает роман Ф.В. Шеллинг («Философия искусства», 1802-1803), понявший роман как этап на пути от эпоса к высшему (по Шеллингу) драматическому роду. Жан-Поль также помещает роман между эпосом и драмой как между двумя «фокусами поэтического эллипса»13.
Для Фридриха Аста, ученика Ф. Шлегеля, роман движется не вперед, к некой идеальной форме будущего, но - вопреки шлегелевской концепции «прогрессирующей универсальной поэзии» - возвращается к эпосу, хотя и на неком новом уровне, вобрав в себя принцип нового искусства - «дух индивидуальности»14.
Объективное - субъективное (внешнее - внутреннее; мир - идея)
Всем было очевидно, что эпос обращен скорее к внешнему, роман - к внутреннему; значит, сторонники сближения эпоса и романа должны, по идее, подчеркивать «объективный» характер последнего, а сторонники разделения этих двух жанров - отмечать устремленность романа к «субъективному», внутреннему. Первый «отделитель» романа от эпоса, Блан-кенбург, в самом деле следует именно такой логике: эпос изображает «публичные деяния и события, т. е. действия гражданина»; в романе же мы должны видеть «все внутреннее бытие действующих персонажей.. ,»15.
Бланкенбургу, конечно, чужд тот культ авторской свободы, который проявится в поэтологии романтиков, увидевших в романе, в противовес эпосу, либо «более или менее скрытую исповедь автора» (Ф. Шлегель)16, либо символическое воплощение идеи - опять-таки авторской: роман -«наглядное осуществление - реализация идеи» (Новалис)17. Предмет романа - скорее «идеи», чем «внешние» события и поступки; в этом духе трактует жанр и Ф. Шлейермахер: в романе «отношение к предметам» должно отойти на второй план, уступив место «отношению к идеям»18.
С наибольшей ясностью романтическая теория романа как «субъективного» жанра выражена, пожалуй, у Ф. Аста: «в романе все развивается из глубочайшей индивидуальности, наиинтимнейшей субъективности...». Но хотя «принцип романа - дух индивидуальности», это не мешает ему в конечном итоге развернуться в полную картину мира, хотя и данную сквозь личность творца: «индивидуальное расширяется до универсума»19.
Завершает эту линию суждение А. Шопенгауэра (из дополнения к «Метафизике прекрасного и эстетике», опубликованного в посмертном издании 1862 г): «род романа тем выше и благороднее, чем в большей мере он изображает внутреннюю, и чем меньше - внешнюю жизнь»20.
Сторонникам сближения романа и эпоса это углубление во внутренний мир чуждо. Так, для Гегеля роман изображает человека во внешнем мире - в обществе, в «прозе отношений». Гегель предвосхищает здесь поворот к «объективному», который проявился в начале 1820-х гг, у молодых романистов, выступавших и теоретиками жанра. В. Алексис относит роман «к эпическому роду» и предельно смягчает различие романа и эпоса, отбрасывая оппозицию внешнего - внутреннего: в отличие от эпоса, роман воспроизводит не «великие, значительные деяния», но «тихую повседневную жизнь героев»; суть романа - «в объективном изображении жизни»21, и т.д.
Автор - внутри романного мира или вне него?
На особое значение автора в романном жанре указал уже Бланкен-бург, для которого всезнающий, по сути, автор романа - намного больше чем рассказчик. Мотив всезнающего автора будет варьироваться и даль-

ше - например, у первого немецкого теоретика «реалистического романа» Юлиуса Шмидта: автор должен «знать бесконечно больше, чем он говорит»; «он должен быть в состоянии давать полнейший отчет о каждом отдельном моменте в жизни и душевных движениях своих персонажей»22.
Но должен ли этот всезнающий автор непосредственно выражать себя изнутри романного мира? Антиномия наметилась уже у Ф. Шлегеля, для которого, с одной стороны, лучшее в романе - «скрытая исповедь автора» (автор внутри романа)23, а с другой - автор (в данном случае Гете) «почти никогда не говорит о своем герое без иронии и, кажется, сам снисходительно улыбается своему шедевру с высоты своего духа...» (автор явно вне романа)24.
Идея внеположности автора романному миру будет постепенно брать верх. Ирония, присущая романисту (по Шлегелю), в эстетике Карла Зольгера превратится в безучастность (Gleichgultigkeit), которая сближает романиста с творцом «античного эпоса»25. Франц Шпильгаген осмыслит повествование от первого лица как условную форму, вовсе не предполагающую вторжение авторского голоса; а Якоб Вассерман еще решительней отделит повествование (в какой бы форме оно ни велось) от автора: «идеальный поэт в прозе» сам ничего не говорит - «говорить должен Другой (einAnderer): некая фигура»26.
Герой - или «не-герой»?
Дилемма о приоритете характера или фабулы в повествовании, сформулированная еще Аристотелем (и тут же решенная им в пользу фабулы), дала о себе знать, хотя не в таком прямолинейном виде, и в теории романа. То, что герой романа совсем не похож на героя эпоса, было ясно уже Блан-кенбургу. Но активно обсуждаться категория романного героя начинает, пожалуй, в 1820-е гг, когда ясно намечается и соответствующая антиномия: герой с его поступками - центр романа; герой - нечто производное от событий (жизни, обстоятельств, народа и т.п.) и потому, в сущности, «не-герой».
Первое воззрение отстаивает Людвиг Берне, который отвергает тезис Гете о герое романа как существе «претерпевающем» и требует от героя поступков: «Чтобы что-то испытывать, нужно действовать...»; но герой романа должен не просто действовать, но и переступать границы своего «жизненного круга»: «Мы в нашей разгороженной перегородками жизни никогда не покидаем сословия и ремесленного цеха, где стояла колыбель наших родителей...»; человек же, «чтобы познать самого себя, должен постичь Другое...»27. Итак, в центре романа - герой, своими поступками переступающий границы жизненного уклада и тем самым меняющий его.
Обратное воззрение излагает В. Алексис. Главное в романе - «объективное изображение многообразных явлений жизни». Герой, или вернее, уже «не-герой (Nicht-Held)» лишь «служит нитью (Faden) повествования, на которую нанизываются отдельные события и явления...»28. Метафору героя-нити, которая позднее войдет в арсенал русских формалистов, подхватывает Вольфганг Менцель: если прежде поэзия изображала отдельных людей, то предметом романа должны стать «целые народы»; герой романа «больше не отдельный человек, но народ». В таком романе герой, даже если он «служит всего лишь нитью, на которую нанизываются картины местностей, народов и нравов»29.
* * *
Завершая наш обзор романных антиномий, отметим лишь одно: эти антиномии существуют не как постоянная объективная данность, но как потенциальные возможности, которые в тот или иной момент актуализируются поэтологическим сознанием. Так, категории «герой» и «событие» едва ли антиномичны сами по себе - но лишь в той мере, в какой поэтика на определенном этапе своего бытия вовлекает их в свою игру и противопоставляет друг другу. Именно эта обратимость, отменяемость поэтологических антиномий, актуализируемых, быть может, лишь в тот момент, когда перестраивается концептуальная конфигурация теории, позволяет видеть в них не «противоречие», требующее устранения, но необходимую форму развития мысли.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 11 -04-00490а («Западное литературоведение XIX века: направления, школы, концепции, термины, персоналии. Энциклопедический справочник»),
Список литературы Антиномии романа: из истории немецкой поэтики XVIII-XIX вв
- Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М., 2011. С. 183
- Blanckenburg F. von. Versuch über den Roman//Romantheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart/Hrsg. von H. Steinecke, F. Wahrenburg. Stuttgart, 1999 (далее -RT). S. 190-191
- Ueber den dramatischen Roman (1794)//RT. S. 211
- Fischer G.N. Ueber den historischen Roman//RT. S. 220
- Brief an Ch. L. Neuffer (1793)//RT. S. 218-219
- Marggraff H. Die Entwicklung des deutschen Romans, besonders in der Gegenwart (1844)//RT. S. 346-347
- Blanckenburg F. von. Op. cit. S. 181-182
- Grimm W. Rezension zu A. von Arnim, «Armuth, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores»//RT. S. 293
- Vischer F.Th. Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen (§ 880)//RT. S. 366-367
- Wezel J.K. Vorrede zu «Herrmann und Ulrike» (1780)//RT. S. 204
- Hegel G.W.F. Ästhetik. Berlin; Weimar, 1976. Bd 2. S. 452-453
- Alexis W. Romane vom Walter Scott (1823)//RT. S. 312
- Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики (1804)/Пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 1981. С. 256
- Ast F. System der Kunstlehre (1805)//RT. S. 289-290
- Blanckenburg F. von. Op. cit. S. 185-186, 190
- Шлегель Ф. Письмо о романе (1800)
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 405
- Novalis. Vorarbeiten zu verschiedenen Fragmentensammlungen (1798)//RT. S. 242
- Schleiermacher F. Rezension zu «Lucinde», ein Roman von F. Schlegel (1800)//RT. S. 255
- Ast F. Op. cit. S. 290, 287
- Alexis W. Op. cit. S. 308
- Schmidt J. Der neueste englische Roman und das Princip des Realismus (1856)//RT. S. 362
- Шлегель Ф. Письмо о романе (1800). С. 405
- Шлегель Ф. О «Мейстере» Гете (1798)/Пер. с нем. Ю. Н. Попова//Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 323
- Solger K.W.F. Vorlesung über Ästhetik (1819)//RT. S. 299
- Wassermann J. Die Kunst der Erzählung (1901)//RT. S. 394
- Börne L. Roman-Literatur (1825)//RT. S. 316