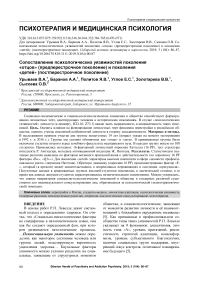Антисуицидальные мотивы подростков Бурятии, совершивших суицидальную попытку
Автор: Лубсанова Светлана Викторовна, Петрунько Ольга Вячеславовна, Доржиева Маргарита Юрьевна
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Суицидология
Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье приведены результаты исследования антисуицидальных мотивов в группе подростков, проживающих на территории Бурятии и совершивших суицидальную попытку. Значимые антисуицидальные факторы связаны с ответственностью перед семьей; мотивами, связанными с детьми и выживанием, умением справляться со стрессовой ситуацией. Менее значимыми антисуицидальными факторами являлись такие мотивы, как опасения относительно совершения самоубийства, опасения социального неодобрения и моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки. Выявлено, что структура антисуицидальных мотивов остается неизменной во всех половозрастных группах сравнения.
Суицид, дети, подростки, антисуицидальные мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/142222103
IDR: 142222103 | УДК: 616.89-008.441.44-053.2-053.6(571.54):364.624.6:612.67 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-55-65
Текст научной статьи Антисуицидальные мотивы подростков Бурятии, совершивших суицидальную попытку
В основе работ Р.П. Ловелле лежит системный подход к определению здоровья. Он считал, что «Социально-психологические факторы не специфичны в патогенетическом плане, они как бы создают определенный фон, при котором развиваются патологические процессы. …Психосоциальную уязвимость можно определить как некоторое состояние человека или группы людей, моделирующую вероятность ущемления здоровья… Каузальные факторы уязвимости можно условно разделить на социальные, зависящие от структурных моментов общества, и социопсихологические, зависящие от моментов развития личности и её взаимоотношений с ближайшим окружением индивида» [5]. Как признанные в профессиональном сообществе типы таких уязвимостей Р.П. Ловелле указывает на 9 феноменов: алекситимия, личность типа «А», уровень притязаний, реалистичность стратегий адаптации, нонконформизм, уровень субъективного благополучия, наличие социальных групп поддержки, внутренний локус контроля, позитивное планирование будущего [5].
В МКБ-10 «поведение типа А» относится к рубрике Z73.1 – «акцентированные» (акцентуированные) личности, что, безусловно, свидетельствует в пользу актуальности данной терминологии («психологическая уязвимость») в сфере исследований психического здоровья.
В последнее время исследования в области алекситимии [1, 2, 11] значительно расширили общепринятое понимание этого феномена. Мы полагаем, что уязвимостями (наряду с указанными Р.П. Ловелле) могут быть определены крайние значения личностных факторов Р.Б. Кеттелла [12]. Помимо важных клиникопсихологических характеристик (по каждой шкале), работа в рамках единой (в значительной степени «целостной») методики возникает возможность проанализировать и собственно личностный «профиль», на базе которого проявляются те или иные «уязвимости» (в том числе и в условиях масштабных социальнопсихологических изменений). К этому важно добавить такое диагностическое преимущество, широко используемое в профессиональной психодиагностике, как понятие «стенов» (величин, «коридора» средних значений именно для данной выборки, к примеру, мужчин или женщин, для людей определенного возраст и пр.).
Масштабной критической ситуацией для российского общества стала эпоха постсоветской перестройки, когда за кратчайшее историческое время произошли принципиальные изменения в мироустройстве страны [4, 7, 14, 15, 19]. Очевидно, что наибольшее влияние эти процессы трансформации общества оказали на самые ранние периоды онтогенеза человека [6, 10, 16, 17, 18].
Таким образом, вполне аргументировано предположение, что проблема «психологических уязвимостей» может быть исследована на примере сопоставления двух поколений, сформировавшихся в различных социальнопсихологических условиях, в свою очередь, имеющих существенные различия в детерминантах, определяющих формирование личности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ психологических уязвимостей поколения «отцов» (предпере-строчное поколение) и поколения «детей» (постперестроечное поколение). Оценка влияния на формирование личностных черт студентов феномена перестройки в российском обществе, оценка угрозы изменений особенностей личности в сторону дезадаптивности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Группы испытуемых относятся к двум поколениям: предперестроечное (год рождения ‒ 1973, психодиагностическое исследование – 1992 г., n=100) и постперестроечное (год рождения ‒ 1999, психодиагностическое исследование – 2016 г., n=100). В обоих случаях испытуемыми были студенты лечебного факультета медицинского университета. Группы были выровнены по соотношению юношей и девушек для максимальной корректности выводов математической обработки, проводимой с помощью новейших статистических программ. Весь массив полученных данных, как минимум, втрое превышает обработанные на сегодняшний момент результаты, поэтому отдельные положения будут уточняться на следующих этапах исследования. Временной «шаг» между временем рождения испытуемых двух групп и их психодиагностического обследования (24-летний период) позволяет нам, несколько метафорически, говорить о поколении «отцов» и поколении «детей».
Обе группы прошли обследование по трем основным психодиагностическим методикам: личностный опросник Р.Б. Кеттелла, 16 PF (полная версия) [3, 9], тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, TSI [13], Методика мотивационной индукции, MMI (профиль ценностных ориентаций) Ж. Нюттена [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первый вопрос, который рассматривался авторами исследования, ‒ выяснить, имеются ли различия между поколениями, которые могут быть верифицированы методами математической статистики.
Изучение качественной характеристики полученных данных позволяет констатировать, что в постперестроечном поколении статистически значимо усилились общие мыслительные способности личности (шкала В): проницательность, умение быстро усваивать информацию, склонность иметь широкие интеллектуальные интересы, рассудительность, упорство, настойчивость. Данные характеристики внешне противоречат снижению показателей вербального (ВИ) и невербального (НИ) интеллекта.
Этим вызвана необходимость (в последующих публикациях) более детально проанализировать динамику изменений формальных показателей интеллекта и того, что можем обозначить как «личностное знание» (личностные характеристики, обеспечивающие адаптацию личности в ментальной области).
Т а б л и ц а 1. Изменения выраженности отдельных характеристик личности и интеллекта в поколениях «отцов» (1973 год рождения) и «детей» (1999 год рождения) по критерию Манна‒Уитни (n=100 в каждой группе)
|
Шкала |
Средние |
U |
Z |
Уровень значимости (р) |
|
|
1973 год рождения |
1999 год рождения |
||||
|
B |
7,81 |
8,54 |
4032 |
-2,39 |
0,01695400* |
|
F |
15,09 |
13,30 |
3815,5 |
2,90 |
0,00373200** |
|
Q3 |
10,74 |
11,92 |
3997,5 |
-2,46 |
0,01380800* |
|
ВИ |
70,05 |
64,08 |
3137,5 |
4,55 |
0,00000500*** |
|
НИ |
43,07 |
39,00 |
3708 |
3,16 |
0,00159200** |
|
S |
11,06 |
9,46 |
4063 |
2,29 |
0,02181100* |
|
R |
1,51 |
2,85 |
3260 |
-4,33 |
0,00001500*** |
|
R3 |
2,58 |
3,78 |
4123 |
-2,16 |
0,03042100* |
П р и м е ч а н и е. Шкалы 16 PF: «В+» (высокие значения) – «абстрактность суждений (интеллект)»; «F-» (низкие значения) – «осторожность», «апатичность»; «Q3+» (высокие значения) – «устойчивость саморегуляции»; TSI: ВИ – «вербальный (понятийный) интеллект», НИ – «невербальный (знаковый, счетный, пространственный) интеллект»; MMI: S – «ценности, связанные с развитием личности»; R – «ценности деятельности»; R3 – «ценности подготовки к трудовой деятельности». Различия на уровне значимости: * ‒ p<0,05; ** – p<0,01; *** ‒ p<0,001.
В таблице 1 приведено 8 самых ярких различий, выбранных из общего массива данных.
Вторая важная шкала F демонстрирует статистически значимое нарастание характеристик «апатичность», «осторожность», «упрямство», «склонность к усложнению анализа проблем вне зависимости от сложности ситуации», «пессимизм». При усилении таких тенденций возможны эпизоды «депрессивных переживаний», «тревоги», «ригидности». При этом все выявленные тенденции обостряются на фоне «возрастной (юношеской)» нормы, которой в целом свойствен противоположный вектор развития.
Выраженность фактора Q3 («способность сдерживать тревожность») у респондентов постперестроечного поколения статистически значимо усиливается, в целом это адекватно общему направлению изменений в обществе. Усиливаются такие характеристики как «самоконтроль», «последовательность поступков», «стремление доводить начатое дело до конца», «осознание социальных требований, стремление их выполнять и забота о впечатлении, которое производится на окружающих».
Три последних показателя, представленных в таблице 1, фиксируют существенные изменения в структуре ценностных ориентаций. С одной стороны, констатируется статистически значимое снижение показателя «самокопания» (S ‒ self); с другой ‒ напротив, рост ценностей вариантов поведения, способствующих достижению тех или иных целей (R – Realization), прежде всего подготовка к профессиональной деятельности (R3). В защиту «самокопания»
для студентов-медиков следует сказать, что навыки самоанализа собственных переживаний могут сыграть существенную роль в профилактике феномена «выгорания» у врачей.
Вторым важным аспектом исследования явилось сопоставление характера изменений среди юношей и девушек. Как отмечено выше, проблема «психологических уязвимостей» наилучшим образом оценивается при использовании личностного опросника Р.Б. Кеттелла.
В таблице 2 приведены результаты сравнения двух групп испытуемых мужского пола. При интерпретации полученных результатов необходимо учитывать два уровня анализа. Первый – статистически значимые изменения, наблюдаемые при сопоставлении выборок, в полном объеме представленные в таблице 2. В примечании каждой личностной черте соответствует направленность изменений (какие крайние значения присущи тому или иному полюсу). Исходя из приведенных данных, очевидно, что происходящие в обществе социально-психологические изменения «открывают дорогу» не только «интеллектуальности», «самоорганизованности» и «силе Я», но так же и «апатичности, циничности» как формам эмоционального реагирования на трудности адаптации.
Второй уровень анализа представляет собой сопоставление полученных данных со «стеновой» (нормированной) оценкой изменений. Здесь необходимо подчеркнуть, что за границы коридора средних значений выходят исключительно результаты шкалы F. Другими словами, 4 из указанных черт личности изменяются в пределах средних значений. Тем не менее только 1 критерий из 5, приведенных таблице 2, имеет явный потенциал появления проблем психолого-психотерапевтического уровня (при её неконтролируемом усилении). Низкие показатели шкалы F должны оцениваться как тревожный взгляд в будущее, особенно если другие шкалы опросника 16 PF указывают на про- блемы, связанные с агрессией или чувством вины. Если у испытуемого обнаруживаются по основным шкалам оценки «E-», «F-», «O+», «Q4+», то сочетание такого рода свидетельствует о возможности формирования депрессии, а возможно, даже о суицидальной настроенности респондента [7, с. 18].
Т а б л и ц а 2. Изменения выраженности отдельных характеристик личности и интеллекта у юношей в поколениях «отцов» (1973 год рождения) и «детей» (1999 год рождения) по критерию Манна‒Уитни (n=40 в каждой группе)
|
Шкала |
Средние |
U |
Z |
Уровень значимости (р) |
|
|
1973 год рождения |
1999 год рождения |
||||
|
B |
7,46 |
8,65 |
553 |
-2,54 |
0,01111300* |
|
C |
12,63 |
14,55 |
607,5 |
-2,01 |
0,04420600* |
|
F |
14,68 |
12,03 |
560,5 |
2,45 |
0,01409600* |
|
I |
9,80 |
8,05 |
597 |
2,11 |
0,03478800* |
|
Q3 |
10,22 |
12,25 |
520,5 |
-2,84 |
0,00447100** |
П р и м е ч а н и е. Шкалы 16 PF: «В+» (высокие значения) – «абстрактность суждений (интеллект)»; «С+» (высокие значения) – «эмоциональная стабильность, зрелость, реалистичность»; «F-» ‒ (низкие значения) – «осторожность», «апатичность»; «I-» (низкие значения) ‒ «циничность»; «Q3+» (высокие значения) – «устойчивость планов на будущее». Различия на уровне значимости: * ‒ p<0,05; ** – p<0,01.
В таблице 3 приведены средние значения факторов, выявленных по личностному опроснику Р.Б. Кеттелла в двух группах (поколениях) девушек. Проанализированные показатели свидетельствуют, что практически нет статистически значимых различий между двумя поколениями. Женская выборка оказалась значительно устойчивее в отношении влияния социально-политических изменений, происходящих в обществе. Единственный фактор, который претендует на приобретение статически значи- мых различий при условии расширения выборки испытуемых, имеется в виду фактор «F-» (о котором мы подробно писали выше, при обсуждении выборки юношей). Вместе с тем фактор «Q3+» (подчеркнем, с позитивным вектором изменений) вносит определенный вклад в динамику всей выборки (см. табл. 1), а главное, выводит группу девушек из поколения «детей» за границы (выше границ) средних «стеновых» значений.
Т а б л и ц а 3. Изменения выраженности отдельных характеристик личности и интеллекта у девушек в поколениях «матерей/отцов» (1973 год рождения) и «детей» (1999 год рождения) по критерию Манна‒Уитни (n=60 в каждой группе)
|
Шкала |
Средние |
U |
Z |
Уровень значимости (р) |
|
|
1973 год рождения |
1999 год рождения |
||||
|
E |
14,42 |
13,22 |
1668 |
-0,54 |
0,58813500 |
|
F |
15,37 |
14,15 |
1427 |
1,83 |
0,06799600+ |
|
H |
14,31 |
13,83 |
1699 |
0,38 |
0,70714800 |
|
Q3 |
11,10 |
11,70 |
1624,5 |
-0,78 |
0,43784300 |
П р и м е ч а н и е. Шкалы 16 PF: «Е-» (низкие значения) – «пассивность», «ведомость», «покорность»; «F-» (низкие значения) – «осторожность», «апатичность»; «Н-» (низкие значения) ‒ «неуверенность», «чувствительность к угрозе»; «Q3+» (высокие значения) – «устойчивость планов на будущее». Значимость различий: «+» ‒ тенденции достоверных различий на уровне значимости p≤0,10.
ВЫВОДЫ
-
1. Социально-экономические и связанные с ними социально-психологические изменения в обществе оказывают влияние на динамику личностных черт от поколения к поколению. Необходимость постоянной коррекции так называемых норм оценки личностных особен-
- ностей подтверждена при сравнении двух групп испытуемых, относящихся к разным поколениям, разделённым периодом перестройки в России. Это представляет значительный интерес при рассмотрении потенциальных конфликтов между старшим и младшим поколениями.
-
2. Эти положения представляются принципиально важными в плане рассмотрения вопроса о «психологических уязвимостях» личности (см., к примеру, Z73.1 ICD-10). Динамика общественных изменений может усиливать риск декомпенсации при наличии личностных предрасположенностей. В нашем случае внимание привлекает устойчивая тенденция к нарастанию явлений «апатии» и «депрессивности» (в конечном счете) у представителей постперестроечного поколения. Мы можем это расценить как некую «плату» за требования современности к высокому уровню профессионализма, готовности к высоким интеллектуальным (преимущественно личностным) нагрузкам, высоким требованиям к навыкам саморегуляции на длительных промежутках времени.
-
3. Обнаруженные различия между юношами и девушками в проводимом нами исследовании можно признать существенными. Девушки значительно в большей степени консервативны в отношении адаптационных реакций на изменения в социально-психологической атмосфере общества, тем не менее оставаясь в русле наблюдаемых тенденций.
-
4. Полученные данные позволяют утверждать, что динамика межпоколенных и гендерных различий должна обязательно учитываться при проведении психокоррекционной и психотерапевтической работы с пациентами медицинских учреждений или лиц, нуждающихся в консультативной поддержке специалистов службы психологической помощи.
Список литературы Антисуицидальные мотивы подростков Бурятии, совершивших суицидальную попытку
- Евсеев А.А. Статистический анализ тенденций и факторов суицидального поведения. Статистика и экономика. 2012; 6(2): 86-90.
- Ворсина О.П. Суицидальные попытки детей и подростков в г. Иркутске. Суицидология. 2011; 2: 28-29.
- Злова Т.П., Ишимбаева А.Н., Ахметова И.И. Социально-психологические особенности незавершенных суицидов у детей и подростков (Забайкальский край, г. Чита). Суицидология. 2011; 2: 26-28.
- Семенова Н.Б. Особенности эмоциональной сферы коренной молодежи Севера как фактор риска суицидального поведения. Суицидология. 2011; 2: 11-13.
- Семенова Н.Б., Мартынова Т.Ф. Анализ завершенных суицидов среди детей и подростков Республики Саха (Якутия). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2012; 3 (72): 42-45.
- Положий Б.С., Панченко Е.А. Суициды у детей и подростков в России: современная ситуация и пути её нормализации. [Электронный ресурс]. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2012; 2. URL:http://medpsy.ru
- Холмогорова А.Б., Воликова С.В. Основные итоги исследований факторов суицидального риска у подростков на основе психосоциальной многофакторной модели расстройств аффективного спектра [Электронный ресурс]. Медицин ская психология в России: электронный научный журнал. 2012; 2.13. URL:http://medpsy.ru
- Рахимкулова А.С., Розанов В.А. Суицидальность и склонность к риску у подростков: био-психосоциальный синтез. Суицидология. 2013; 4(3): 3-18.
- Зотов П.Б. Факторы антисуицидального барьера в психотерапии суицидального поведения лиц разных возрастных групп. Суицидология. 2013; 4(2): 2-6.
- Павлова Т.С., Банников Г.С. Современные теории суицидального поведения подростков и молодежи [Электронный ресурс]. Психологическая наука и образование. 2013; 4. URL:http://psyedu.ru/journal/2013/4/Pavlova_Bann ikov.phtml
- Г орюнова Н.И., Добряков Д.А. Аутоагрессивное поведение как фактор риска у подростков. Тюменский медицинский журнал. 2013; 15(3): 1-3.
- Дашиева Б.А. Этнокультуральные особенности суицидального поведения у подростков с ограниченными возможностями здоровья бурятской и русской национальности. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 6 (81): 64-67.
- Корнетов Н.А. Семиотика, диагностика и тактика ведения терапии депрессивного расстройства в клинической медицине. Бюллетень сибирской медицины. 2014; 13(3): 4-18.
- Розанов А.В. Самоубийства среди детей и подростков: что происходит и в чем причина. Суицидология. 2014; 5(3): 9-16.
- Селезнев С.Б. К вопросу о суицидальной активности детей и подростков Краснодарского края. Тюменский медицинский журнал. 2014; 16(1): 18-20.
- Бохан Н.А., Стоянова И.А., Счастный Е.Д., Королев А.А. Патопсихологические характеристики пациента с двойным диагнозом в контексте суицидального поведения. Суицидология. 2014; 5(2): 2-5.
- Коновалов О.Е., Чернобавский М.В. Профилактика депрессивных состояний и суицидов у подростков на регионарном уровне. Российский педиатрический журнал. 2014; 2: 45-49.
- Спадерова Н.Н., Горохова О.В., Герасина С.Е. Анализ завершенных суицидов у детей и подростков в практике отделения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз Тюменской ОКПБ за 2012-2014 гг. Тюменский медицинский журнал. 2014; 16 (1): 21-24.
- Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Мандель А.И., Назарова И.А., Стоянова И.Я. Агрессия и суицидальное поведение подростков в различных условиях социализации. Суицидология. 2018; 2(2): 50-60.
- Кирпиченко А.А., Барышев А.Н. Суицидальное поведение подростков г. Витебска и Витебской области. Вестник Витебского государственного университета. 2015; 14 (2): 77-82.
- Банников Г.С., Павлова Т.С., Кошкин К.А., Летова А.В. Потенциальные и актуальные факторы риска развития суицидального поведения подростков (обзор литературы). Суицидология. 2015; 6(4): 3-11.
- Дашиева Б.А. Этнокультуральные особенности психического здоровья детей и подростков с валидизирующими заболеваниями. Российский психиатрический журнал. 2015; 4: 47-56.
- Розанов А.В., Уханова А.И., Волканова А.С., Рахимкулова А.С., Пизарро А., Бирон Б.В. Стресс и суицидальные мысли у подростков. Суицидология. 2016; 7(3): 20-32.
- Сыроквашина К.В. Современные психологические модели суицидального поведения в подростковом возрасте. Консультативная психология и психотерапия. 2017; 25(3): 60-75.
- Шиляева И.Ф., Астахова А.В. Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте. Вестник Прикамского социального института. 2018; 1 (79): 148-152.
- Лукашук А.В., Филиппова М.Д., Сомкина О.Ю. Характеристика детских и подростковых суицидов (обзор литературы). Российский медикобиологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2016; 2: 137-142.
- Calear A.L., Christensen H., Freeman A., Fenton K., Busby Grant J., van Spijker B., Donker T. A systematic review of psychosocial suicide prevention interventions for youth. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2016; 25(5): 467-82.
- DOI: 10.1007/s00787-015-0783-4
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Уманский С.М. Суицидологический регистр - важный организационный элемент системы суицидальной превенции. Суицидология. 2010; 1: 8-9.
- Коновалов А.Ю. Клинико-социальные характеристики и реабилитация лиц с суицидальными попытками в условиях многопрофильного общесоматического стационара: автореферат дис.. к.м.н. М., 2015: 22.
- Рычкова Л.С., Смирнова Т.А., Конева О.Б., Махнина Н.И., Ботова Н.Д. Гармонизация детско-родительских отношений как основа профилактики суицидального поведения. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2017; 3, 1(16): 48-52.
- Васильченко М.В. Профилактика и коррекция кризисных состояний и суицидального поведения подростков. Российский психологический журнал. 2009; 6 (1): 87-90.
- Linehan M.M., Goodstein J.L., Nielsen S.L., Chiles J.A. Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1983; 51(2): 276-286.
- DOI: 10.1037/0022-006X.51.2.276
- Волочков А.А., Левченко Д.В. Предварительная адаптация подростковой версии опросника "Причины для жизни" А. Османа и М. Линихэн. Вест ник Пермского университета. 2017; 3: 396-408.
- DOI: 10.17072/2078-7898/2017-3-396-408
- Hamilton E., Klimes-Dougan B. Gender differences in suicide prevention responses: implications for adolescents based on an illustrative review of the literature. Int J Environ Res Public Health. 2015; 12 (3): 2359-72.
- DOI: 10.3390/ijerph120302359
- May A.M., Victor S.E. From ideation to action: recent advances in understanding suicide capability. Curr Opin Psychol. 2018; 22: 1-6.
- DOI: 10.1016/j.copsyc.2017.07.007
- Preventing suicide: A global imperative. World Health Organization. 2014: 89 https: //www. who. int/mental_health/ suicide-prevention/exe_summary_english. pdf?ua= 1
- Mackin D.M., Perlman G., Davila J., Kotov R., Klein D. N. Social support buffers the effect of interpersonal life stress on suicidal ideation and selfinjury during adolescence. Psychological Medicine. 2017; 47 (6): 1149-1161.
- DOI: 10.1017/S0033291716003275
- Sisask M., Varnik A., Kolves K., Konstabel K., Wasserman D. Subjective psychological well-being (WHO5) in assessment of the severity of suicide attempt. Nord J Psychiatry. 2008; 62(6): 431-435.
- DOI: 10.1080/08039480801959273
- Van Praag H. The role of religion in suicide prevention. In: Wasserman D., Wasserman C., editors. Oxford textbook of suicidology and suicide prevention: a global perspective. Oxford: Oxford University Press; 2009: 7-12. www.oxfordmedicine.com
- Mars B., Heron J., Klonsky E.D., Moran P., O'Connor R.C., Tilling K., Wilkinson P., Gunnell D. What distinguishes adolescents with suicidal thoughts from those who have attempted suicide? A population-based birth cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. 2019; 60(1): 91-99.
- DOI: 10.1111/jcpp.12878
- Pandey A.R., Bista B., Dhungana R.R., Aryal K.K., Chalise B., Dhimal M. Factors associated with suicidal ideation and suicidal attempts among adolescent students in Nepal: Findings from Global School-based Students Health Survey. PLoS One. 2019; 14(4): e0210383.
- DOI: 10.1371/journal.pone.0210383
- Stewart J.G., Shields G.S., Esposito E.C., Cosby E.A., Allen N.B., Slavich G.M., Auerbach R.P. Life Stress and Suicide in Adolescents. J Abnorm Child Psychol. 2019: 1-16.
- DOI: 10.1007/s10802-019-00534-5
- Xiao Y., Romanelli M., Lindsey M.A. A latent class analysis of health lifestyles and suicidal behaviors among US adolescents. J Affect Disord. 2019; 255: 116-126.
- DOI: 10.1016/j.jad.2019.05.031
- Sarchiapone M., Mandelli L., Carli V., Iosue M., Wasserman C., Hadlaczky G., Hoven C.W., Apter A., Balazs J., Bobes J., Brunner R., Corcoran P., Cosman D., Haring C., Kaess M., Keeley H., Kereszteny A., Kahn J.P., Postuvan V., Mars U., Saiz P.A., Varnik P., Sisask M., Wasserman D. Hours of ty, emotional concerns, and suicidal ideation. Sleep Med. 2014; 15(2): 248-54.
- DOI: 10.1016/j.sleep.2013.11.780