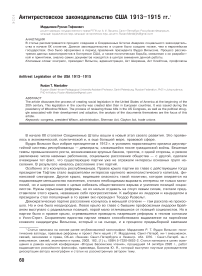Антитрестовское законодательство США 1913-1915 гг.
Автор: Мардалиев Р.Т.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: ЭССЕ
Статья в выпуске: 4 (6), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс создания в Соединенных Штатах Америки социального законодательства в начале XX столетия. Данное законодательство в стране было создано позже, чем в европейских государствах. Оно было оформлено в период правления президента Вудро Вильсона. Процесс рассмотрения данных законопроектов в Конгрессе США, а также политическая борьба, связанная с их разработкой и принятием, анализ самих документов находятся в центре внимания данной работы.
Конгресс, президент вильсон, администрация, акт шермана, акт клейтона, профсоюзы
Короткий адрес: https://sciup.org/14121106
IDR: 14121106
Текст научной статьи Антитрестовское законодательство США 1913-1915 гг.
В начале XX столетия Соединенные Штаты вошли в новый этап своего развития. Это проявилось в экономической, политической и, в еще большей мере, правовой сфере.
Вудро Вильсон был избран президентом в 1912 г. в условиях нарастающего кризиса двухпартийной системы республиканцы — демократы , сложившейся после гражданской войны. Бешеные темпы промышленного роста, возникновение крупных банков, трестов, с одной стороны, и резкое увеличение числа наемных работников, социальное расслоение общества — с другой, сделали очевидным тот факт, что существующие партии уже не отражали интересы основных групп населения. В результате началось расслоение этих партий.
Особенно это коснулось республиканцев. Правое крыло партии во главе с действующим тогда президентом Тафтом стало выразителем интересов крупного монополистического капитала, финансовой олигархии. Другое крыло, видевшее опасность такой политики, которая опирается на подавляющее меньшинство населения, считало необходимым выражать интересы не только монополий, но и широких слоев с целью избежать общественного взрыва и усиления позиций социалистов. Нужны серьезные реформы, но их нельзя отдавать на откуп левым силам, считали представители этого крыла, назвавшие себя прогрессистами. К выборам их лидером и кандидатом в президенты стал популярный в то время экс-президент Теодор Рузвельт.
Демократическую партию расслоение коснулось в меньшей степени — там раскола не произошло. Но и она была неоднородна. Левое крыло во главе с бывшим профсоюзным лидером Брайаном выступало с радикальных позиций, порой мало отличавшихся от позиций социалистов. Но в партии было и правое крыло, стремившееся проводить назревшие реформы в тесном согласии с Уолл-Стрит. Сохранению единства партии немало способствовало выдвижение на партийном конвенте кандидатуры Вильсона, который и на съезде, и в процессе предвыборной кампании сумел убедить оба крыла в своей приверженности реформам, с одной стороны, и намерении согласовывать их с крупным капиталом — с другой. Не все были согласны с такой двойственной позицией Вильсона, но единство партии сохранить удалось.
ЭССЕ
Избиратели же предпочли прогрессистам Вильсона, притом что в их программах было немало общего. Хотя по своей сути программа Вильсона, несмотря на демократическую риторику, была более осторожной, чем взгляды лидеров прогрессистов Теодора Рузвельта и в особенности более радикального сенатора Лафоллета.
Объяснить это можно тремя причинами. Во-первых, сказалась традиционная усталость избирателя от многолетнего правления одной партии — республиканцев. Во-вторых, население больше поверило обещаниям нового человека в политике — принстонского профессора Вильсона, чем прогрессистам, которые все равно воспринимались как бывшие республиканцы, хотя точнее было бы их называть республиканцами-раскольниками. И наконец, в-третьих, сказалась позиция средств массовой информации, создавших Вильсону образ государственного деятеля новой формации, борца с монополиями и сторонника политики «равных возможностей». Владельцы газет сделали на него ставку как раз потому, что правящая элита увидела именно в Вильсоне человека, способного предотвратить взрыв недовольства и в то же время провести реформы без ущерба для нее самой. Популистские речи Вильсона в большинстве своем не вызывали у олигархов страха в отличие от речей непредсказуемого и импульсивного экс-президента, которого правящий класс всегда недолюбливал. И они не просчитались.
После окончания выборов прогрессисты абсолютно осознанно пошли на союз с Вильсоном, поддержав его программу, основными пунктами которой были тарифы, резервная система, антитрестовское законодательство. Между их лидером Лафоллетом и президентом установился постоянный контакт. Рузвельт после выборов уже отошел на задний план. Известно о неприязненных отношениях между ним и Вильсоном. В целом же прогрессисты питали надежду, что их программа будет успешно воплощена в жизнь новым президентом.
5 марта 1913 г. стало первым рабочим днем президента Вильсона после его инаугурации днем ранее. В Овальном кабинете Белого дома собрались все члены нового правительства. Но на этом первом заседании отнюдь не были намечены грандиозные планы реформ, обещанных избирателям во время предвыборной кампании. Эти планы уже были выработаны Вильсоном, и он совсем не нуждался в согласовании их с членами своего кабинета. Это было не в его характере. Вообще, заседания правительства при Вильсоне всегда были формальностью. Все кардинальные решения он принимал сам либо в обществе своих ближайших советников. К членам правительства он всегда относился как к техническим работникам, призванным проводить в жизнь волю президента. Он полагал, что министры не должны даже участвовать в принятии глобальных политических решений и могут обладать безусловной властью только в рамках своих министерств.
Вильсон полагал также, что в его задачу входит установление твердого контроля за деятельностью представителей своей партии в конгрессе. По его мнению, долг лидера партии — держать под своим началом демократических конгрессменов и сенаторов, вменив им в обязанность строго следовать за ним, неукоснительно поддерживая его политику в высшем законодательном органе страны. С этой целью в качестве орудия давления он широко использовал кокусы (общие собрания партийной фракции в палате представителей и сенате). В результате Вильсон тотчас после вступления на пост президента наложил железную руку на свою партию в конгрессе.
Все это говорило об авторитарных методах управления, которые были присущи Вильсону на всех этапах его жизненного пути. Еще в молодости он пришел к выводу, что первенствующее место в политической жизни США должно принадлежать не конгрессу, а президенту. Только в этом случае, полагал он, государственный механизм будет исправно функционировать. Поэтому Вильсон просто не представлял себе, что конгресс может не одобрить его предложений. Но в то же время он был дальновиднее своих предшественников и понимал, что такой результат не будет достигнут автоматически. Поэтому Вильсон не отдалялся от конгресса, а, напротив, установил с его комитетами (а в конгрессе власть комитетов была бесспорной — к этому выводу Вильсон пришел давно) самый тесный контакт. Стратегия Вильсона сочетала в себе гибкость и непреклонность. Эти специфические методы Вильсона сыграли важную роль в его деятельности на посту президента США, а особенно в деле проведения социальной политики и создания антитрестовского законодательства.
Первое мероприятие в данном направлении вряд ли можно считать заслугой Вильсона, так как закон о реорганизации министерства торговли и труда в два самостоятельных министерства был введен в действие еще в последний день правления администрации Тафта. Вильсон просто поддержал эту меру и провел ее в жизнь. Результатом стало образование самостоятельного соци-
ЭССЕ
ального министерства труда и вхождение министра труда в состав кабинета. Первым социальным министром был назначен бывший профсоюзный деятель Уильям Вильсон, однофамилец президента, до назначения являвшийся секретарем-казначеем Объединенного союза горняков, а с 1910 г. он был членом палаты представителей от демократической партии и возглавлял там комитет по вопросам труда.
Следующим шагом новой администрации был Акт Ньюлендса, подписанный Вильсоном в июле 1913 г., то есть в самый разгар борьбы за тарифы. Согласно этому закону создавалось посредническое управление с целью предотвращения конфликтов между железнодорожными компаниями и наемными рабочими (официальное название — Управление по посредничеству и примирению). Согласно идеологии закона данная инстанция должна была защищать работников от явных притеснений со стороны компаний. Первым руководителем управления стал известный юрист Фрэнк Уолш. Это были лишь первые шаги, по большому счету не решавшие всего комплекса проблем, но положившие начало серьезному процессу законодательного оформления прав трудящихся, растянувшемуся, правда, на несколько десятилетий.
Иначе повел себя президент в вопросе контроля над применением детского труда на производстве. К 1913 г. 35 штатов приняли законы, устанавливающие возрастной минимум для детей, работающих на предприятиях. Большинство этих законов предусматривало ограничение продолжительности рабочего дня для подростков. Поэтому прогрессисты поставили перед новой администрацией вопрос о необходимости принятия аналогичного закона о детском труде, который бы обязал все штаты привести свое законодательство в этой области в соответствие с федеральным. Но администрация не торопилась.
Тогда член палаты представителей Палмер внес 26 января 1914 г. в конгресс проект билля о детском труде2. Но этот проект натолкнулся на непонимание со стороны президента. Вильсон отказался принять представителей комитета и охарактеризовал билль как неконституционный. Свою позицию президент объяснил недопустимостью вмешательства федеральной власти в законодательство штатов и необходимостью принятия подобных законов на уровне штатов, демографическая и социальная ситуация в которых неоднородна3.
В подобном шаге проявилось явное нежелание Вильсона стимулировать введение подобных новшеств в общенациональном масштабе. Думается, что в этот период сказались достигнутые между президентом и представителями деловых кругов договоренности. Ведь не секрет, что они были частыми гостями в Белом доме, где и проходил политический торг между ними и властью. Игнорировать монополистов власть не могла — в противном случае оказались бы под угрозой все реформы, а президент мог бы лишиться столь необходимой ему поддержки со стороны прессы.
Однако демократам в той или иной мере необходимо было выполнять свои предвыборные обещания. Во время президентской кампании 1912 г. в партийной платформе была провозглашена великолепная декларация против монополий. В ней говорилось: «Частная монополия нетерпима и ничем не оправдывается. Поэтому мы выступаем за энергичное усиление уголовных и гражданских законов против трестов и трестовских чиновников и требуем введения такого дополнительного законодательства, которое будет необходимо, чтобы сделать невозможным существование в Соединенных Штатах частной монополии»4.
Надо сказать, что сам Вильсон тут же выступил с более умеренных позиций, так как в глубине души исповедовал идею невмешательства государства в дела частного бизнеса. Он неоднократно заявлял, что является противником регулирования трестов, но в то же время не является сторонником монополий. Его позиция не раз была продемонстрирована во время предвыборной кампании и заключалась в выдвижении тезиса об абсолютно свободном предпринимательстве, под которым понималось, с одной стороны, сохранение крупных корпораций, а с другой — обеспечение условий для конкуренции. Буквально за месяц до выборов Вильсон говорил в своей предвыборной речи в штате Индиана: «Демократическая партия — друг бизнеса, но только свободного. Она является абсолютным, открытым, непримиримым врагом монополии всякого рода»5.
По мнению Вильсона, развитие огромных корпораций не могло и не должно было тормозить конкуренцию и препятствовать активности небольших предприятий. Таким образом, Вильсон предлагал совместить несовместимое. Такая позиция кандидата в президенты не была каким-то идеализмом, скорее, она объяснялась прагматизмом лидера демократов, пытавшегося угодить раз- личным партийным кругам и тем самым сохранить единство партии, противопоставить расколовшимся республиканцам единый демократический монолит. Вильсон никогда не был противником крупного капитала и произносил свои разоблачительные речи всегда вынужденно, из тактических соображений, о чем сразу же и заявлял в узком кругу тем же монополистам и представителям правого крыла партии.
ЭССЕ
Но публично президент обещал своим избирателям уничтожить монополию и восстановить свободную конкуренцию, что уже само по себе было утопией в начале XX века. Только поэтому после прихода к власти ему пришлось выступить с инициативой пересмотра существующего на тот момент антитрестовского законодательства. Это был последний из трех главных пунктов программы Вильсона. В ноябре 1913 г., когда билль о тарифах был уже утвержден, а кульминация борьбы за Федеральный резервный акт тоже была позади, администрация развернула бурную деятельность в конгрессе по разработке новых антитрестовских законов, стремясь прежде всего не выпустить ситуацию из-под контроля.
Формально билль был подготовлен юридическим комитетом палаты представителей, который возглавлял конгрессмен Клейтон. Однако президент вмешивался в работу законодателей так же активно, как и при разработке двух предыдущих законов. Это выражалось в проведении длительных совещаний президента с Клейтоном, другими законодателями и экспертами. Вильсон был глубоко убежден, что законодательство нельзя отдавать на откуп комитетам конгресса, недоверие к которым он сохранил с молодых лет. Он также не очень доверял в этом деле чиновникам администрации, которые всегда играли лишь вспомогательную роль в процессе торга администрации с законодателями. Ключевую роль играл сам президент.
В результате совместной деятельности конгрессменов и администрации были выработаны общие принципы, которые должны были лечь в основу будущего законопроекта. Предлагалось прежде всего дифференцировать различные формы монополий, дать им определения и четко разъяснить, какие из них играют деструктивную роль, ограничивая свободную торговлю, а какие нет. Предлагалось внести норму, закреплявшую презумпцию вины при рассмотрении исков о нарушении свободы конкуренции — доказательство невиновности в нарушении закона должно быть возложено на ответчика по иску.
Предполагалось также запретить систему перекрещивающегося директората, которая вела к так называемому скрытому монополизму. Для того чтобы контролировать решения судов о роспуске трестов, предлагалось учредить межштатную промышленную комиссию, подотчетную исключительно государству. На первый взгляд эти меры впечатляли. Кроме того, пресса постоянно заявляла о поддержке президентом этих мер, о том, что готовящийся законопроект является именно его детищем, способным открыть новую страницу в истории страны6.
-
2 декабря 1913 г. президент выступал с первым ежегодным посланием к конгрессу, и в связи с этим в политических кругах гадали, какую позицию он займет по вопросу разработки и принятия антитрестовского законодательства, правильно ли пресса интерпретирует его позицию или это один из элементов пропагандистской кампании демократической администрации. Однако Вильсон не очень распространялся на эту тему. Он еще раз заверил конгрессменов в своей приверженности программе «новой демократии» и как бы между прочим обронил следующую фразу: «Необыкновенно важно, — подчеркнул он, — чтобы деловые круги нашей страны получили в законодательстве об их предприятиях и капиталовложениях четкие указания, по какому пути они могут следовать без опасений»7. Кроме того, Вильсон подчеркнул: «Мы должны оставить антитрестовский закон Шермана без изменений»8. Это уже был явный реверанс в сторону бизнеса.
Здесь необходимо сделать отступление и пояснить, что представляет собой закон Шермана. Он был принят еще в 1890 г. также в целях борьбы с монополиями. Но согласно его нормам рабочие организации также приравнивались к монополиям. Его составители считали, что профсоюзы тоже препятствуют конкуренции при найме рабочей силы. Это давало возможность работодателям с помощью послушных им судов преследовать профсоюзы и их руководителей. Поэтому закон Шермана сразу вызвал недовольство в рабочем движении. За его частичный пересмотр выступали прогрессисты, левое крыло демократической партии, не говоря уже о самих профсоюзах.
Поэтому отношение к рабочим статьям закона Шермана должно было стать неким тестом для новой администрации и лично Вильсона для выяснения их планов по реформированию антитрестовского законодательства. Вышеупомянутые фразы президента в послании конгрессу были очень
ЭССЕ
показательны. Сбылись опасения левых — власть не хотела коренных реформ и реального изменения соотношения сил между работодателями и наемными работниками.
Однако власть не хотела обострения отношений с теми силами, которые все еще поддерживали администрацию. Поэтому стали активно искать выход из положения. Было решено все же принять поправки к закону Шермана, в которых признавался бы легальный статус рабочих организаций и любых других организаций, не имеющих капитала. Это несколько осложнило бы существовавшую тогда практику запрещения через суд рабочих организаций. Оформить все это предлагалось в готовящемся билле Клейтона, призванном аккумулировать в себе все предложения по изменению существовавшего на тот момент антитрестовского законодательства.
Поэтому вернемся к процессу разработки и принятия билля Клейтона. Президент, стремившийся постоянно держать руку на пульсе в законодательном процессе, решил более подробно изложить свое видение отношений между властью и капиталом в выступлении на второй сессии конгресса 20 января 1914 г. Вильсон говорил: «Нет больше антагонизма между бизнесом и правительством. Правительство и деловые круги готовы идти навстречу друг другу и упорядочить методы деловой практики с помощью как общественного мнения, так и закона. Так же, как и мы, лучшие представители делового мира осуждают методы, действия и последствия монополии, и за ними инстинктивно следует огромное число бизнесменов. Мы выступим теперь как их представители»9.
Вильсон подчеркнул, что «ничто так не вредит бизнесу, как неопределенность», и предложил конгрессу выработать и утвердить законопроекты, которые могли бы упорядочить существующее антитрестовское законодательство. Он предложил в этих целях законодательно запретить систему перекрещивающегося директората, создать специальную промышленную комиссию, а также предложил расширить функции Междуштатной торговой комиссии10. Все эти предложения нашли отражение в готовящемся билле Клейтона.
Сам билль рассматривался в конгрессе с мая по октябрь 1914 г. Он был внесен туда 23 мая и сразу же вызвал бурю недовольства. Но если недовольство консервативных кругов нормами, предусматривавшими санкции за нарушение антитрестовских законов в виде штрафов и даже тюремного заключения, было вполне предсказуемо, то обвинения прогрессистов оказались довольно неприятным сюрпризом для Вильсона. Всякие ссылки со стороны администрации на то, что президент находится над схваткой, а основными авторами закона является сенатский комитет, мало кого убеждали. В политических кругах для всех было очевидно, что президент Вильсон играет активную, если не ведущую, роль в разработке ключевых законопроектов, что в корне отличало его от предшественников.
Но не только параграфы, содержащие санкции, но и основные «рабочие» параграфы вызвали бурные дебаты. Дело в том, что в тот период большинство конгрессменов и сенаторов были убеждены, что уступки трудящимся неизбежны. Только вот предел этих уступок они видели по-разному. Например, сенатор от Арканзаса Эшерст выступил с весьма левыми идеями. «Рабочую силу, — считал он, — нельзя рассматривать как собственность, как раз именно она и создает эту собственность»11. Сенатор подчеркнул, что основной задачей государства на данном этапе является обеспечение «социальной справедливости» и «индустриальной свободы», но только для тех, кто «оставит свои привычки к лености и расточительности»12. Под последними он подразумевал бастующих. Позиция сенатора от Арканзаса очень характерна для сторонников закона Клейтона.
-
8 июля Вильсон принял делегацию Чикагской ассоциации предпринимателей, которые потребовали от президента ограничить антитрестовские мероприятия, смягчив санкции, предусмотренные проектом для работодателей. Вместе с тем предприниматели заявили, что в целом одобряют «рабочие параграфы» в том виде, в каком они представлены в законопроекте, и не будут возражать против легализации профсоюзов13.
Рассмотрим основные статьи законопроекта, которые вызвали неоднозначную реакцию. Например, ст. 6 декларировала, что «труд человека не является товаром или предметом торговли». Далее в статье указывалось на недопустимость «запрещения существования и деятельности рабочих, сельскохозяйственных и садоводческих организаций, учрежденных с целью взаимной помощи, не владеющих денежными акциями и не производящих прибыль»14.
Ст. 8 запрещала практику перекрещивающегося директората, чего уже давно добивались профсоюзы, и не только профсоюзы15. Эта статья была введена в действие не вместе с законом, а два года спустя. Именно так и было предусмотрено в проекте.
ЭССЕ
Ст. 20 представляет интерес не только из-за своего содержания, но и потому, что, пожалуй, демонстрирует некий срез политики Вильсона в данной области, проводимой по принципу, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». С одной стороны, в данной статье есть норма, запрещавшая судам принимать решение о применении силы по отношению к трудящимся во время конфликтов предпринимателей с наемными рабочими. Но в то же время еще одна норма возлагала ответственность на профсоюзы в случае нанесения рабочими ущерба собственности предпринимателей. В этом случае последние наделялись правом обращения в суд с исками, ответчиками по которым являлись профсоюзы16. Подобная формулировка этой и других «рабочих» статей вполне устроила работодателей и даже профсоюзы, лидер которых Гомперс назвал данные статьи «великой хартией труда»17.
Обращает на себя внимание, что в этих и других статьях предусматривалось, что решение о наличии или отсутствии правонарушения, а также степени наказания мог принимать исключительно суд. Учитывая, что отношения между олигархами и судебными органами на практике были не всегда бескорыстными, то закон, конечно же, не установил никаких гарантий от обхода корпорациями многих его конструктивных норм.
К моменту окончательного утверждения билль Клейтона претерпел значительные редакционные изменения. Они не имели принципиального значения, но все же способствовали значительному ослаблению его наступательного характера. Все это вызвало недовольство не только в стане левых, но даже и в кругах правящей партии. Известна фраза демократического сенатора Рида от штата Миссури, которую он произнес публично: «Все, что мы здесь делаем, — безнадежный фарс»18.
Однако значение закона не стоит приуменьшать. Главная его заслуга состоит в том, что он способствовал сохранению политического равновесия в стране, относительного социального мира. Ведь те радикальные проявления недовольства со стороны трудящихся все же не были массовыми и не находили поддержки большинства наемных рабочих, как бы это ни пытались доказать исследователи советского периода. Еще одной заслугой закона явилось долгожданное запрещение перекрещивающегося директората. И конечно, самой сильной составляющей билля были так называемые «рабочие статьи», в которых не только декларировалось, что труд в принципе не может быть предметом торговли, но и впервые были созданы механизмы, пусть и недостаточно надежные, позволяющие соблюдать эти нормы.
Вторым пунктом антитрестовской программы Вильсона был билль о Федеральной промышленной комиссии. Это была отнюдь не идея Вильсона, и даже не идея его партии. Впервые этот закон был задуман Луи Брандейсом и Джорджем Рабли. Федеральная промышленная комиссия была задумана как сильный правительственный орган для регулирования экономических процессов в стране. Она могла издавать распоряжения о приостановке или даже запрете деятельности отдельных корпораций. Конечно, подобные решения все равно можно было оспорить в судебном порядке, и это было правильно. Но все равно комиссия обладала по меркам того времени слишком широкими полномочиями в сфере регулирования экономической жизни.
При рассмотрении билля в палате представителей он мало изменился, зато при обсуждении его в сенате он начал обрастать огромным количеством поправок. В результате полномочия комиссии существенно сузились. Теперь она должна была лишь заниматься сбором и публикацией информации о противозаконной деятельности корпораций. Она могла представить также эти сведения генеральному прокурору. По поручению президента или конгресса комиссия могла заниматься расследованием деятельности корпораций, нарушающих антитрестовское законодательство, а его результаты представляла этим органам. Все эти положения были декларированы в ст. 6 закона, которую без преувеличения можно считать ключевой статьей документа.
Окончательное же решение во всех случаях принимали судебные органы, от окружного суда до Верховного суда США. Такое оптимальное с точки зрения сегодняшнего дня решение тогда вызвало серьезное недовольство в левых политических силах и у профсоюзов. Причиной такого недовольства явилось не только недоверие к судебным органам, но и нежелание профсоюзов
ЭССЕ
добиваться справедливости в открытом состязательном процессе — гораздо предпочтительнее для них было оказывать давление на близких им по взглядам и духу членов государственной комиссии.
Не меньшее недовольство вызвала и ст. 5, к которой сенаторы приняли поправку о необходимости широкого и основательного судебного надзора за деятельностью Федеральной промышленной комиссии. Эта поправка, конечно же, была результатом лоббирования деловых кругов, чье влияние в сенате было достаточно высоко.
Противники окончательной редакции закона утверждали, что таким образом судебные органы оказались поставлены над законом, так как получили возможность, используя процессуальные уловки, свести к нулю всю ценность закона19. Думается, что это было преувеличением. Еще раз повторю, с точки зрения сегодняшнего дня приоритет решения судебных органов по отношению к любым другим органам власти является нормой. Другое дело, что процессуальные моменты действительно нередко довлеют, но не над законом в целом, а над материальным правом. Что же касается политиков — критиков билля о Федеральной промышленной комиссии, то они в большинстве своем не столько критиковали конкретные нормы закона, сколько не могли простить Вильсону фразу, в которой он дал понять, что хотел бы видеть в учреждаемой комиссии «советника и друга» предпринимателей20. Так что в этом трудно согласиться с уважаемым Артуром Линком.
Третьим пунктом антитрестовской программы Вильсона был билль Рэйберна. Он был более узкой направленности по сравнению с двумя предыдущими и предполагал дать Междуштатной торговой комиссии право контроля над финансовыми операциями железных дорог. Он был утвержден палатой представителей, а у сенаторов, среди которых было немало откровенных и скрытых лоббистов, вызвал неоднозначную реакцию. Поэтому в сенате воспользовались начавшейся летом 1914 г. войной в Европе и не стали рассматривать этот законопроект, отложив его до лучших времен. Лучшие времена, как это нередко бывает, так и не наступили.
Таким образом, антитрестовская программа Вильсона была реализована лишь в основном. Однако это вполне отвечало представлениям Вильсона о необходимости сотрудничества власти и капитала, но зато разочаровало многих его уже теперь бывших сторонников из стана левых. Одновременно президент значительно укрепил свои позиции в деловых кругах. Крупный капитал понял, что напрасно опасался радикальных планов Вильсона. Президент оказался в состоянии проводить политику, направленную на защиту их интересов и одновременно ослабление недовольства широких кругов населения.
Главной задачей демократической администрации было пойти на серьезные уступки левым, но в то же время постараться не выйти за рамки принятого двадцать три года назад акта Шермана. Добиться идеального компромисса, да еще в этой области, невозможно, поэтому кому-то приходится уступать. В данном случае уступить пришлось левым, только не все из них сразу это поняли. Поэтому антитрестовское законодательство можно считать менее удачным из всех достигнутых Вильсоном в те годы компромиссов.
Исследователи называют разные причины эволюции антитрестовского законодательства в процессе его разработки и принятия. Например, Артур Линк считает, что «ослабление антитрестовской правительственной программы было первым признаком усиления реакции, которая начиная с 1914 г. с возрастающей силой влияла на президента и правительство»21.
Это было, по-видимому, действительно так. Тем более что с каждым месяцем монополисты имели все больше рычагов давления на власть. В 1914 г. стали ощущаться признаки экономического кризиса — росла безработица, упал уровень производства, увеличилось по сравнению с предыдущим годом число банкротств. Оппозиция, естественно, обвиняла во всем правительство и новые тарифы, в любой момент к этим голосам могли присоединиться и олигархи, создав вместе с республиканцами в обществе нужные им настроения. В этих условиях Вильсон решил не обострять отношений, а по возможности договориться с олигархами, пожертвовав радикальными нормами антитрестовских законов. В результате законы Клейтона и о Федеральной промышленной комиссии получились не столь радикальными, но и они внесли свою лепту в разрядку достаточно напряженной обстановки в отношениях между трудящимися и работодателями.
Поэтому поведение Вильсона и его администрации в создавшихся условиях вполне предсказуемо, и дело тут вовсе не в реакционных поправках сенаторов, внесенных якобы помимо воли президента. Хорошо известно, как Вильсон умел влиять на законотворческий процесс, по крайней мере, в первые годы пребывания у власти. Любое неугодное для администрации решение просто не могло быть принято до тех пор, пока в законодательной власти в 1919 г. не стала преобладать оппозиция.
ЭССЕ
В этой связи показательно письмо президента лидеру демократической фракции нижней палаты конгресса Андервуду, направленное перед закрытием сессии 1914 г., накануне промежуточных выборов. В письме Вильсон выразил удовлетворение работой конгресса в течение двух лет, а главное, результатами этой работы. Было реформировано таможенное законодательство, создана Федеральная резервная система, приняты антитрестовские законы. В связи с этим президент объявил программу «новой демократии» выполненной. «Это была великая программа, — писал он, — и я чувствую глубочайшее удовлетворение при воспоминании о том, как эффективно она проводилась»22.
Вильсон подчеркнул, что в основе всех принятых законов лежит намерение ликвидировать частный контроль и обеспечить свободу предпринимательства. Все это напрямую связано с высшей целью американского государства, утверждал президент, а именно — утверждение индивидуальной свободы и инициативы «против любого рода частного господства»23. Единственным недостатком Вильсон считал то, что сельхозпроизводители так и не получили закон о фермерском кредите, обещанный демократами в период предвыборной кампании 1912 г. Однако наличие отлаженной банковской системы, чему немало должен был способствовать Федеральный резервный акт, мог, по мнению президента, исправить положение24.
«Нью-Йорк Таймс» опубликовала это письмо 19 октября, то есть за две недели до выборов в конгресс. Поэтому особое внимание обратила на себя предвыборная часть письма, в которой Вильсон называет свою партию «образцом силы и сплоченности», которая «полностью свободна от запутанных альянсов, сделавших республиканскую партию абсолютно неспособной проводить какие-либо реформы еще до ее раскола»25.
Конечно, Вильсон здесь кривил душой. Он сам шел на альянсы с деловыми кругами, только эти альянсы не были такими публичными, как у республиканцев. Более того, Вильсон сумел убедить монополистов в необходимости перемен с целью сохранения социального мира и стабильности в стране. Правда, они и сами начинали уже это понимать, но единой позиции по вопросу, что надо делать, у них не было. Демократической администрации удалось пройти по острию ножа и создать правила игры, пусть и не безупречные, но приемлемые для большинства общества. А для того, чтобы они были таковыми для широких слоев населения, необходима тонкая и слаженная работа средств массовой информации, которые в подобных условиях фактически превращаются в средства массовой пропаганды. Вильсон понял это одним из первых, если не первым, среди политиков такого уровня.
Список литературы Антитрестовское законодательство США 1913-1915 гг.
- Antitrust Laws with Amendments, 1890-1937. Wash., 1938.
- Baker, R. S. Woodrow Wilson. Life and Letters. Vol. 1-6. Garden City, 1927.
- Congressional Record. 64th Congress.
- Gompers, S. Seventy Years of Life and Labor. N. Y., 1957.
- Link, A. Woodrow Wilson and the Progressive Era (1910-1917). N. Y., 1963.
- National Party Platforms. Urbana, 1956.
- The New York Times.
- The Papers of Woodrow Wilson. Vol. 1-2. Princeton, 1966.