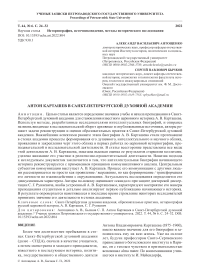Антон Карташев в Санкт-Петербургской духовной академии
Автор: Антощенко Александр Васильевич, Бычков Сергей Павлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является определение значения учебы и начала преподавания в Санкт-Петербургской духовной академии для становления известного церковного историка А. В. Карташева. Используя методы, разработанные исследователями интеллектуальных биографий, и опираясь на вновь вводимые в исследовательский оборот архивные и опубликованные источники, авторы решают задачи реконструкции и оценки образовательных практик в Санкт-Петербургской духовной академии. Важнейшими аспектами раннего этапа биографии А. В. Карташева стали протекавшие в стенах академии процессы формирования его душевного, интеллектуального и научного облика, проявления и закрепления черт этого облика в первых работах по церковной историографии, преподавательской и исследовательской деятельности. В статье всесторонне представлены все виды этой деятельности А. В. Карташева, показана высокая оценка ее результатов старшими коллегами, уделено внимание его участию в религиозно-просветительской деятельности. Новизна подхода к исследуемым документам заключается в том, что интеллектуальная биография начинающего историка реконструируется с применением принципов коммуникативного анализа. Центральным субъектом коммуникации выступает А. В. Карташев. Процесс его коммуникации с другими людьми рассматривается не просто как проявление / выражение, но как формирование / трансформация его личности во взаимодействии с окружающими. Актуальность исследования определяется его дискуссионным характером. Авторы по-новому оценивают «скандал» при защите докторской диссертации С. Г. Рункевича, якобы устроенный А. В. Карташевым, характеризуют восприятие его манеры преподавания студентами и детально анализируют первую публикацию начинающего историка. В результате опровергается наметившееся в последнее время стремление некоторых исследователей принизить значение его деятельности в стенах академии.
Санкт-петербургская духовная академия, образовательные практики, историография русской церковной истории, а. в. карташев, с. г. рункевич
Короткий адрес: https://sciup.org/147238892
IDR: 147238892 | УДК: 930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.804
Текст научной статьи Антон Карташев в Санкт-Петербургской духовной академии
Более чем десятилетнее пребывание в стенах Санкт-Петербургской духовной академии (далее – СПДА), сначала в качестве учащегося, а потом магистранта и молодого преподавателя, известного в последующем историка, политика, государственного и общественного деятеля
Антона Владимировича Карташева (1875–1960), имело важное значение для его биографии и запомнилось ему на всю жизнь. Уже на склоне лет, будучи профессором Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, он с теплым чувством и признательностью вспоминал alma mater. По воспоминаниям учившегося в институте И. Мейендорфа,
«в Париже Карташев был известен как увлекательнейший рассказчик о “святых” академиях, где – в отличие от бурсацкой казенщины в семинариях – преобладала атмосфера серьезного научного труда и подлинной церковности. Именно от Карташева мы, студенты, слышали об историке В. В. Болотове, знавшем только три дороги: в аудиторию, в библиотеку и в храм; об “умнице” Сергии Страгородском, ректоре академии, впоследствии местоблюстителе и патриархе; о “праведном” Вениамине Казанском, однокашнике Карташева, а затем митрополите Петроградском, мученике за веру, погибшем в 1922 году» [7: 169].
Однако в исследовательской литературе о А. В. Карташеве [1], [8] этот период, как правило, излагается крайне кратко, что не позволяет адекватно оценить его значение. Имеющиеся архивные и опубликованные материалы позволяют восполнить этот недостаток, чему и посвящена данная статья.
ГОДЫ УЧЕБЫ
В академию принимались абитуриенты, окончившие семинарии на отлично и рекомендованные семинарским правлением для посылки за синодальный счет, прошедшие курс семинарий и прибывающие в академию за свой счет, а также все желающие, окончившие высшие и средние классические учебные заведения. Антон Карташев, с отличием окончивший Пермскую духовную семинарию, попадал в первую категорию и по существовавшим тогда правилам был принят на 1-й курс в 1894 году на «казенный кошт» в числе 55 поступивших из духовных семинарий1.
По приезде в Петербург юный Антон был глубоко впечатлен его столичным величием, увлечен новыми жизненными и учеными горизонтами, раскрывшимися перед ним. Храмы с великолепной архитектурой, внутренним убранством, величественным богослужением, богатство библиотек и музеев, перспективы активного приобщения к высотам культурной жизни и академической учености, предвкушение знакомства с новыми товарищами, собиравшимися со всей России, – все это могло ошеломить и ошеломляло почти любого приехавшего на учебу в столицу из провинции2. Спустя более чем полвека, в 1950 году, в одном из писем Г. И. Новицкому он писал о
«незабвенном моменте блаженства, когда в 1894 г. смиренный провинциал прибыл в страшный загадочный Санкт-Петербург, выдержал, казалось, неодолимый, конкурсный экзамен в Духовную академию на казенную стипендию и… почувствовал себя как король, получивший трон и цивильный лист»3.
Академия, как и сегодня, располагалась на территории Александро-Невской лавры в трехэтажном особняке. На первом этаже нахо- дились студенческая библиотека, столовая, административные кабинеты инспекторов и эконома. Аудитории, актовый зал, музей, студенческая читальня – на втором. Комнаты для занятий студентов помещались на третьем этаже. В комнатах для занятий каждый имел определенное место за одним из двух больших столов, рассчитанных на шесть человек. Тут же стояли два платяных шкафа для одежды, две большие этажерки для книг, два дивана, стулья. В одной комнате занимались 12 человек, сидевших в алфавитном порядке. Академическая библиотека находилась в особом здании, в саду.
По существовавшим правилам и казеннокоштные, и своекоштные студенты, за исключением имевших в городе родителей, обязаны были жить в стенах академии. Как отмечают исследователи истории духовных учебных заведений, в бытовом отношении студенты СПДА были обеспечены намного лучше студентов других заведений, отягощенных квартирными, материальными проблемами, плохим пропитанием. Здесь же все было в распоряжении студентов и под рукой. Большие и светлые жилые комнаты, хорошее питание и одежда, громадная библиотека, сад для прогулок. Можно было всецело погрузиться в науку, не отвлекаясь на посторонние заботы4.
Представление об организации занятий в академии дают ежегодные отчеты. Как указывалось в отчете о деятельности академии за 1894 год, когда в ней начал учиться А. В. Карташев, «занятия студентов академии состояли в слушании и усвоении лекций, составлении сочинений и проповедей, в чтении книг и сдаче годичных испытаний». Студенты I, II и III курсов в течение недели должны были прослушать от 20 до 24 лекций, написать по три семестровых сочинения и подготовить по одной проповеди, причем студенты первых трех курсов составляли проповеди-экспромты в классе в указанное время на данную тему5.
В академии в тот период преподавало около трех десятков преподавателей – профессоров и доцентов. За время своего обучения А. В. Карташев прослушал лекции таких известных лекторов академии, как В. В. Болотова (по истории раннехристианской церкви), Н. Н. Глу-боковского (по Священному Писанию и Новому Завету), А. И. Бриллиантова (по общей церковной истории), И. С. Пальмова (по истории славянских церквей), своего предшественника по кафедре русской церковной истории П. Ф. Николаевского и др.
Кроме посещения лекций и написания научных работ студенты занимались миссионерской деятельностью. С разрешения ректора они принимали участие во внебогослужебных собесе- дованиях в храме Общества по распространению религиозно-нравственного просвещения, церкви подворья Задне-Никифоровской пустыни, школе при фабрике братьев Варгуниных, церкви Св. Петра и Павла при Обуховском заводе, молитвенном доме И. В. Алексеева, столовой при Чугунном заводе, при фабрике Спасской мануфактуры, на фабрике Паля, в столовой при фабрике Штиглица, 1-м ночлежном доме, ночлежном доме на Малой Болотной, при заводе Дурдина и в комитете для призрения и разбора нищих. В состав групп священников и студентов старших курсов академии, участвовавших в этих собеседованиях, входил А. В. Карташев6.
Академия имела небольшой численный состав студентов, большинство жили в одном месте, братски помогая и заботясь о своих однокашниках и первокурсниках7. Однако существовали и проблемы. Значительным было число студентов, не успевавших по болезни. Почти ежегодно в отчетах академии конца 1890-х годов встречались и упоминания о смерти студентов. Сырой, промозглый петербургский климат не очень способствовал здоровью студентов, особенно выросших в более благоприятных климатических условиях. Были неприятности со здоровьем и у А. В. Карташева. Из-за болезни (возможно, ревматизма, на который он в более зрелые годы жаловался своему другу С. П. Каблукову) в конце третьего года обучения он не сдавал экзаменов по всем предметам академического курса и не подавал семестрового сочинения. Совет академии «определил» оставить его на второй год обучения на третьем курсе с сохранением за ним казеннокоштной сти-пендии8. В результате продления общего курса обучения уже после III курса Антон Карташев вынужден был подать прошение о материальной поддержке, поскольку по существовавшему положению студент обеспечивался за счет казны только четыре года со дня поступления в академию. Прошение было удовлетворено, и он был зачислен на одну из свободных стипендий9.
При выпуске из академии каждый студент обязан был предоставить выпускное сочинение и при положительном отзыве рецензента на него получал звание кандидата богословских наук. В 1899 году А. В. Карташев сдал выпускной экзамен и подготовил работу «Славянские переводы творений Св. Иоанна Златоуста». Как отмечал в своем отзыве на нее экстраординарный профессор академии А. И. Пономарев, А. В. Карташев зарекомендовал себя как кропотливый, вдумчивый исследователь, обладающий навыками научной работы. Написание выпускного сочинения потребовало от Антона Карташева тщательной работы с источниками на цер- ковнославянском, русском, греческом языках, изучения большого массива греко-византийской литературы и исследований отечественных авторов. Рецензент посчитал, что работа блестяще удалась и представляла собой настоящее научное сочинение10. За него совет академии удостоил А. В. Карташева денежной премии митрополита Иосифа в размере 165 рублей11. В дипломе за № 2103, выданном ему по окончании академии 15 сентября 1899 года, приводился общий список изученных дисциплин и оценки, полученные по результатам обучения. Как «отлично хорошие» были оценены его знания по введению в круг богословских наук, Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, библейской истории, догматическому, нравственному и пастырскому богословию, педагогике, церковному праву, общей церковной истории и историям Русской церкви и славянских церквей, патристике, церковной археологии, истории и разбору западных исповеданий, логике, психологии, метафизике, истории философии, теории словесности и истории иностранных литератур, истории русской литературы, русскому и церковнославянскому языкам (с палеографией), еврейскому языку и библейской археологии, а также английскому языку. По истории и обличению русского раскола А. В. Карташев продемонстрировал «очень хорошие» знания, и только результаты изучения им гомилетики и истории проповедничества были признаны «условно хорошими». За это будущий историк был удостоен степени кандидата богословия и получил право на степень магистра без новых устных испытаний. В документе указывалось также, что «предоставляются Антонию Карташеву все права и преимущества, законами Российской империи со степенью кандидата духовной академии соединяемые». «За воспитание в академии» А. В. Карташев обязан был выслужить шесть лет в духовном ведомстве, и до выслуги этого срока не мог оставить службу в духовном ведомстве «без особого разрешения Святейшего синода»12.
Лучшие выпускники академии оставлялись при кафедрах в качестве профессорских стипендиатов для сдачи магистерских экзаменов и подготовки диссертации. После одного года занятий, а если была необходимость, то и раньше, они отчитывались о своей работе и допускались к преподаванию в качестве и. о. доцентов. После написания и защиты магистерской диссертации присуждалась соответствующая научная степень, что открывало дорогу для достижения следующей степени – доктора богословия, или церковной истории, или же канонического права. Эта дорога по окончании академии была уготована А. В. Карташеву. Он был оставлен профессор- ским стипендиатом по кафедре истории русской церкви. С этого же момента он стал юридически свободным, когда по специальному ходатайству академии, согласно Своду законов Российской империи, постановлением Пермской казенной палаты в первой половине 1899 года был исключен из податного состояния, освобождаясь тем самым от уплаты крестьянской подати13.
Учителем и наставником по кафедре русской церковной истории для А. В. Карташева был протоиерей, профессор П. Ф. Николаевский. Он указал молодому преподавателю на то, что «до-синодальный период истории русской церкви уже достаточно освещен наукой, перед которой теперь ставится задача вступить в сложный синодальный период» [2: 151]. Именно здесь и определилась окончательно основная научная специализация – область церковной истории. На положении профессорского стипендиата А. В. Карташев пробыл с 16 августа 1899 года по 16 августа 1900 год. За этот год было сделано достаточно много и в плане получения навыков преподавания, и в сборе научного материала. Для знакомства с «методами высшего преподавания истории» А. В. Карташев обратился в совет СПДА с прошением «исходатайствовать» для него «дозволение на посещение лекций историко-филологического факультета» столичного университета в 1899–1900 учебном году14. Это прошение было поддержано. В качестве годовой стипендиальной работы А. В. Карташеву было поручено изучение печатных академических работ, освещавших синодальный период существования Русской церкви (то есть то, что сегодня мы назвали бы историографией). Молодой исследователь приступил к выявлению, сбору и систематизации источников по истории Русской церкви. Было выполнено им и задание, полученное от временного научного руководителя П. Н. Жуковича по оценке общих систем русской церковной истории. Все это позволило ему набрать фактический материал для своего лекционного курса.
НАЧАЛО ПРЕПОДАВАНИЯ
Как отмечал в своем отчете экстраординарный профессор П. Н. Жукович, которому советом академии после смерти П. Ф. Николаевского было поручено временно замещать кафедру русской церковной истории и «опекать» в научном плане оставшихся без руководства профессорских стипендиатов, «выбор преемника себе, сделанный покойным П. Ф. Николаевским, поистине счастливый для академии выбор»15. Совет академии обратил внимание на молодого стипендиата. А. В. Карташеву было поручено прочтение двух пробных лекций, тема одной из которых была определена советом16. Он же сам выбрал темой другой лекции учреждение Синода. После успешного завершения испытания, 16 августа 1900 года А. В. Карташев был избран исполняющим обязанности доцента кафедры истории Русской церкви СПДА. Утверждение в должности митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадков-ским) состоялось 27 сентября 1900 года17.
В начале своего курса во вторую половину 1900–1901 учебного года Антон Владимирович прочитал систематический обзор русской церковной истории и начал изложение истории христианства до крещения Руси князем Владимиром. На следующий год он читал лекции в первой половине года студентам III и IV курсов о положении христианства до князя Владимира, о всеобщем крещении Руси равноапостольным князем и проводил систематический разбор домонгольского периода русской церковной исто-рии18. На третий год им был прочитан материал, связанный с московским периодом: от монголов до введения патриаршества – в первом семестре. Во втором же семестре он повторил материал первого года преподавания с добавлением сюжетов внешней миссии Русской церкви в домонгольский период19.
Так началась его преподавательская деятельность. А. В. Карташев был очень популярен среди студентов. Как вспоминал его ученик Н. Ве-ритинов:
«...на устах у поступавших в академию чаще всего были две фамилии: известного всей Европе “глубокой глубокости” Глубоковского и устремленного к горним высотам Карташева» [3: 107].
Впервые Н. Веритинов увидел А. В. Карташева на вступительных экзаменах и составил о нем такое впечатление: «С высокой худощавой фигурой, с тонким, бледным, аскетическим лицом, внешне в профиль напоминавший Гоголя, он весь был сама одухотворенность» [3: 107]. Молодой ученый был чрезвычайно чуток, обворожительно мягок, в личном общении неизменно благожелателен, чем и привлекал молодежь. Его не только уважали, но и любили. Несомненно, что он был одним из лучших лекторов академии, ибо ему была присуща
«эрудиция, а в особенности глубокая интуиция и совершенно точные слова для передачи того, что открывалось его внутреннему взору. Закрыв глаза, моментами слегка жестикулируя, он так вводил слушателей в курс читаемого, что картина вставала ясная, незабываемая» [3: 107].
Но экзаменатором он был строгим. «Задает вопрос и закрывает глаза: Да, это так... А здесь нет, вы ошибаетесь. Факты отмечены верно, но не тот подход, не то освещение по исторической обстановке...», – писал Н. Веритинов [3: 107]. Что всегда поражало людей, близко его знавших, так это его манера почти всегда закрывать глаза, когда слушал или отвечал. Это было выражением глубокой работы мысли, которая, не отвлеченная ничем внешним, искала точный и мудрый ответ. Но в том и было своеобразие историка, что этот мудрый ответ он приберегал для себя, «клал на дно души» и до поры до времени без крайней необходимости не открывал другим [2: 131]. Глубоко отличавшимся от других, редко и мало согласным с ними, идущим своей дорогой, думающим о своем и не обижавшим других виделся он тем, кто знал его по СПДА. Они же отмечали его эрудицию, глубокий ум, соединявшиеся с природной добротой, честнейшими побуждениями и чрезвычайной скромностью [3: 109]. Молодым на фоне своих маститых коллег, но подающим большие надежды преподавателем и исследователем запомнился А. В. Карташев и Г. И. Шавельскому [10: 119].
Конечно, данные источники в силу своего характера (воспоминания и некролог), несомненно, субъективны, но и их свидетельства должны учитываться при казалось бы строго объективном подходе, который стремится провести в своих оценках историк академии Д. А. Карпук [5: 183–185, 188–191]. Он справедливо выделяет три важные направления научно-педагогической деятельности начинающего ученого – оценка кандидатских сочинений, участие в обсуждении магистерских и докторских диссертаций и, как сегодня сказали бы, «публикационная активность», но по всем им А. В. Карташев получает от современного исследователя баллы много ниже, чем те, которые поставили ему (очевидно, «лукавившие», как П. Н. Жукович) его бывшие преподаватели.
Если обратиться к оценкам кандидатских сочинений А. В. Карташевым, то следует отметить, что написание их студентами официально не предполагало «руководства» со стороны тех, кто предлагал темы, которые в соответствии с уставом 1884 года лишь утверждались ректором академии и самостоятельно разрабатывались выпускниками, хотевшими, получив кандидатскую степень, открыть тем самым себе дорогу для преподавания, по крайней мере в духовных семинариях или училищах. По свидетельству того же Г. И. Шавельского, преподаватели «одни более, другие менее» руководили написанием таких сочинений, а при выборе темы оканчивающие курс академии нередко предпочитали взять тему у того преподавателя, который был более снисходителен в своих оценках
[10: 123]. Поэтому простое количественное сравнение оцененных учителем А. В. Карташева и им самим кандидатских сочинений едва ли даст адекватное представление об их заслугах в подготовке преимущественно будущих преподавателей средней духовной школы. К тому же более корректное сравнение можно было бы проводить при сопоставлении показателей на начальных стадиях преподавания того и другого. Наконец, принципиальность (или «скандальность» в представлении Д. А. Карпука) оценок А. В. Карташевым магистерских диссертаций и даже докторской, о чем было, конечно, известно и студентам, вполне могла стать причиной их опасений и нежелания брать темы у него и самим подвергаться строгой оценке.
Коль скоро речь зашла о «скандальной» оценке А. В. Карташевым докторской диссертации С. Г. Рункевича, то следует отметить, что «скандалистом» в данном случае являлся вовсе не начинающий ученый. В обстоятельном очерке ее обсуждения, написанном явно симпатизирующим своему персонажу Г. Э. Щегловым [11: 130–143], легко увидеть, что рецензировавший исследование по поручению ректора СПДА Сергия Страгородского начинающий историк, как и его патрон, не соглашался с апологетической оценкой введения синодального управления, представленной в работе чиновника Святейшего синода. Критические замечания А. В. Карташева заставили усомниться в качестве исследования многих коллег, в результате чего большинство профессорского совета СПДА высказалось за решение вернуть диссертацию на доработку. Однако симпатизировавший претенденту на докторскую степень профессор Т. В. Барсов и поддержавший его профессор А. П. Лопухин подали «особое мнение», в котором дезавуировали оценки А. В. Карташева. Опираясь на этот документ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) передал дело на рассмотрение Святейшего синода, присвоившего своему секретарю С. Г. Рункевичу степень доктора церковной истории вопреки мнению большинства совета СПДА. Трудно сказать, насколько это повлияло на желание А. В. Карташева усердно заниматься собственным исследованием начального периода деятельности академии, также связанного с синодальным управлением, каноничность которого не должна была подвергаться сомнению, но его критическое отношение к нему уже наметилось в данное время.
ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Тезис Д. А. Карпука о пренебрежительном отношении А. В. Карташева к скрупулезной источниковедческой работе также требует коррек- тировки в свете данных об участии начинающего исследователя в комиссии Н. К. Никольского, занимавшейся описью рукописей библиотеки ака-демии20. Точнее будет указание на то, что по складу своего характера А. В. Карташев, очевидно, был больше склонен к написанию обобщающих работ, о чем свидетельствовали его первые публикации в двух летних номерах «Христианского чтения» за 1903 год.
Нетрудно заметить, что изучение развития церковной истории автор неразрывно связывал со светской историографией. Он был достаточно критичен по отношению к ее просветительскому направлению, представители которого видели в церкви и священниках противников просвещения народа и отличались утилитарным взглядом на религию как орудие реализации государственных интересов, а посему игнорировали церковную историю как самостоятельный предмет. Не менее критичен А. В. Карташев был и в отношении Святейшего синода, давшего негативный отзыв на предложение о печатании хронографов. Поэтому он обращался к произведению датчанина А. Б. Селлия, которое не было опубликовано, но, по мнению начинающего историка, сыграло свою роль в становлении историографии прошлого Русской церкви, дав основания для изучения истории ее иерархии. Однако более существенную роль в становлении церковной историографии он уделил отечественным исследователям, не упустив из виду, с одной стороны, общее влияние «екатерининского времени» на развитие исторического познания, а с другой – сложные перипетии и коллизии личных взаимоотношений и конкуренции, как это было в случае с преосвященным Евгением Болховитиновым и митрополитом Платоном. У автора «Краткой российской церковной истории» А. В. Карташев не только находил отдельные верные положения, но и позитивно оценивал критический подход и «дар исторического прозрения, способность схватывать причинный смысл давно минувших собы-тий»21. Вместе с тем он отдал должное и митрополиту Евгению, продолжившему дело написания истории иерархии и давшему очерки «начальной истории христианства на Руси» и «западнорусской церкви до последнего времени»22. При этом А. В. Карташев демонстрировал знакомство не только с исследовательской литературой и опубликованными материалами, но и архивными источниками.
Выделяя в качестве характерной черты следующего этапа развития церковной историографии стремление создать ее целостную систему, начинающий исследователь справедливо скептически отнесся к «Начертанию церковной истории от начала до XVIII в.» Иннокентия (Смирнова), построение которой оказалось лишенным единства, механически раздробленного по отдельным столетиям и искусственно объединенного в отдельные, лишенные внутренней логики разделы. Не преминул при этом А. В. Карташев посетовать и на возможное негативное влияние на содержание книги «указаний сверху» и цензуры. Обращение к опубликованным на немецком языке работам Ф. К. Штраля, как и ранее – к А. Б. Селлию, свидетельствовало не только о хорошем владении им наряду с классическими и одним из новоевропейских языков, но и о том, что он не был склонен противопоставлять, а тем более принижать иноязычную литературу в сравнении с отечественной. Напротив, молодой русский историк позитивно оценил беспристрастность своего коллеги-католика, в то время как «приподнятый, панегирический тон» сочинения по истории российской церкви А. Н. Муравьева был подвергнут критике за то, что мешал утверждению беспристрастия и истины.
Во второй части статьи А. В. Карташев представил характеристику научной разработки церковной истории, начиная с пятитомного труда архиепископа Филарета. Важным мотивом для ее создания он считал конкуренцию с митрополитом Макарием, а среди сдерживающих факторов вновь указал на негативное влияние цензуры Святейшего синода. Общая оценка работы была положительной. «В первый раз здесь история русской церкви представлялась в стройном делении по периодам и предметам»23, – отмечал начинающий ученый, воспринявший впоследствии и периодизацию, и деление «предметного поля». Но и недостатки не остались незамеченными: вполне понятные из-за вмешательства церковной цензуры упущения ряда вопросов синодального периода, который интересовал А. В. Карташева в исследовательском плане, как занимающегося историей академии в этот период. Наиболее существенным недостатком труда архиепископа им был назван взгляд «с официальной точки зрения», то есть «со стороны правительственных перемен и действий отдельных выдающихся лич-ностей»24. Объясняя причину этого недостатка, молодой историк вновь помещал анализируемый труд в общее русло развития российской историографии, в которой еще не сформировалось окончательно представление о «внутренней истории». Но при этом им не упускались из виду особенности развития не только церковной, но шире – религиозной историографии, что проявилось в признании влияния на иерарха «формальной богословской школы», которое характеризовалось негативно, как схоластика. Следующее за этим критическое, по сути, указание на субъективизм Филарета «смазывалось»
утверждением, что эта черта характера автора делала ее пригодной для «назидательного чтения».
При рассмотрении условий появления монументального труда митрополита Макария молодой историк вновь отметил значение конкуренции между ним и митрополитом Филаретом. Показав процесс создания много-томника, он высоко оценил «Историю русской церкви», поставив ее значение вровень с тем, что имела «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева для историографии гражданской истории. И если в отношении первых томов А. В. Карташев был привычно критичен, то относительно последующих оценка его являлась однозначно положительной: «…во второй и большей своей половине ”Исто-рия” митрополита Макария по своей справедливости занимает в науке первенствующее положение труда, еще никем не превзойденного»25. Особо он отмечал единство критерия периодизации и его церковный характер – отношения «русской церкви к церкви восточной». Правда, проведению этого критерия в первый период он приписал нарушение его цельности, а затем и вовсе заявил об узости чисто церковного критерия. Следует отметить, что впоследствии, сам приступив к созданию обобщающих очерков по истории Русской церкви, А. В. Карташев будет использовать многомерный критерий, позволяющий объединить преимущества подходов митрополитов Филарета и Макария.
Завершая обзор анализом работ по церковной истории современных ему авторов, А. В. Карташев отмечал «догматический» и обобщающий характер учебных, по сути, книг П. В. Знаменского и А. П. Доброклонского. Не отрицая значения такого рода руководств и отмечая их достоинства, начинающий историк все же выделял на их фоне исследования по истории Русской церкви Е. Е. Глубоковского, сочетавшего строго-критический подход к источникам с творческим осмыслением и объяснением выявленных в результате активного поиска новых данных, что вело к их верному пониманию. Особо А. В. Карташев отмечал использование Е. Е. Глубоковским новейших для того времени методологических подходов – сравнительного изучения материала в сочетании с методом «ретроспекции». Вполне логичным на этом фоне был вывод о «имеющей явиться в будущем “философии истории русской церкви”, для которой пока еще во всех отношениях не наступило время»26, который свидетельствовал о серьезных намерениях молодого ученого.
Академия была школой жизни, школой становления. Однако весьма скоро А. В. Карташев понял, что в стенах духовной академии жизнь совсем иная, чем в окружающей действительности.
Размышляя над судьбами светской и духовной культур, несколько позже он признает, что в академии господствовал аскетический идеал, весьма далекий от образцов, целей и стремлений светской культуры. Были в духовной школе и свои прекрасные, отточенные образцы образованного аскетизма, одним из которых ученый бесспорно признавал В. Д. Быстрова, впоследствии архиепископа Феофана. Встреча и разговор с ним были, несомненно, одними из самых важных событий в жизни молодого церковного исследователя. Как вспоминал сам Антон Владимирович:
«До встречи со студентом Быстровым мои учителя как-то невольно приучили меня видеть в богословии лишь книжную систему, усваиваемую головным путем и с большей или меньшей ловкостью применяемую в философских и практических целях. Помню, как после разговора с Василием Дмитриевичем об одной модной догматической теории, я сразу как-то оробел и почувствовал, что есть на свете люди, для которых догматы – живые субъективные созерцания, а разговор о них – повесть о своем психологическом опыте, что для таких людей святые отцы и вообще древняя церковная литература – живой, понятный источник, а не запечатанный археологический документ, как для остального богословствующего по профессии большинства»27.
Однако взращиваемый в академии аскетический идеал имел и определенные специфические, в дальнейшем отрицательно характеризовавшиеся А. В. Карташевым последствия для формирования мировоззрения всех без исключения ее воспитанников. Главным негативным результатом господствовавшей церковно-академической системы воспитания и образования была полная оторванность студентов академии от проблем и достижений современной светской культуры. Поэтому знакомиться со светской культурой А. В. Карташеву пришлось совершенно в другой обстановке и в окружении других людей. Новым его кругом стали некоторые светские участники Религиозно-философских собраний в 1901–1903 годах. Это событие имело невероятно важное значение для судьбы А. В. Карташева, о чем свидетельствуют недавние исследования наших коллег [4], [7]. Но эта тема уже выходит за пределы данной статьи. Здесь же отметим, что активная публицистическая деятельность А. В. Карташева, острые выступления против пассивности Российской православной церкви в период нарастания революционных потрясений встретили негативное отношение со стороны Святейшего синода. Ректор СПДА Сергий Стра-городский, будучи человеком тактичным и мягким, в частной беседе предложил А. В. Карташеву либо оставить публицистику, либо покинуть стены академии, считая невозможным сохранение прежнего положения вещей, при котором активный критик церковной иерархии находил- ся бы на церковном попечении. В 1905 году заканчивался срок, который А. В. Карташев был обязан отработать в духовном ведомстве после обучения «на казенный кошт» в академии без бюрократических и финансовых осложнений, и он, после некоторых раздумий, покинул СПДА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что же дала академия А. В. Карташеву, несмотря на столь резкое расставание? Во-первых, запас специального богословского, философского, церковно-исторического знания, которым он пользовался всю свою дальнейшую длинную и неспокойную жизнь. Несмотря на то что он сетовал на его односторонность, на попытки восполнить естественные пробелы чуть ли не прохо- димым заново университетским курсом, это был его «неприкосновенный», ценнейший запас.
Во-вторых, это наблюдение над величайшими образцами служения науке и знанию, которым он стал следовать, ослабив свое прямое участие в политике в эмиграции. Бесспорно, он стал в эмиграции активным носителем и продолжателем той традиции, которую лицезрел в лучшие годы в СПДА.
В-третьих, все-таки в значительной степени именно академии он обязан многочисленным своим социальным, религиозным, культурным связям и кругам личного и интеллектуального общения. Именно она сделала его как достаточно заметным лицом в интеллектуальной панораме рубежа веков, так и глубоким экспертом внутренних церковных вопросов и проблем.
Список литературы Антон Карташев в Санкт-Петербургской духовной академии
- Антощенко А. В. Историографический обзор жизни и творчества А. В. Карташева // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 4 (181). С. 26-33. Б01: 10.15393/uchz.art.2019.327
- Веритинов Н. В старой академии: Из воспоминаний // Возрождение. 1956. Февраль. Тетр. 50. С. 121134.
- Веритинов Н. В старой академии: Из воспоминаний // Возрождение. 1960. Октябрь. Тетр. 106. С. 107-112.
- Воронцова И. В. А. В. Карташев и «неохристианство»: интеллектуальная биография историка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 8 (185). С. 65-71.
- Карпук Д. А. Кафедра русской церковной истории в Санкт-Петербургской духовной академии на рубеже Х1Х-ХХ вв. // Христианское чтение. 2015. № 5. С. 175-218.
- Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора с 1847 по 1913 гг. Н. Новгород, 2010. 432 с.
- Мейендорф И. А. В. Карташев - общественный деятель и церковный историк // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 169-173.
- Тищенко С. А. Историография жизни А. В. Карташева (1875-1960): историк, политик и педагог в научной литературе // Труды Воронежской духовной семинарии. 2019. № 11. С. 87-96.
- Тищенко С. А. Участие А. В. Карташева в работе Религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 36. С. 352-378.
- Шавельский Г. И. В школе и на службе. Воспоминания. М.; Брюссель, 2016. 815 с.
- Щеглов Г. Э. Степан Григорьевич Рункевич (1867-1924): Жизнь и служение на переломе эпох. Минск: ВРАТА, 2008. 436 с.