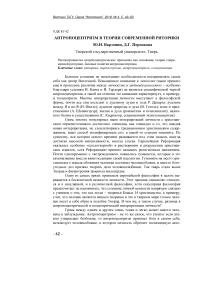Антропоцентризм в теории современной риторики
Автор: Варзонин Юрий Николаевич, Персикова Дарья Геннадьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются антропоцентрические принципы как основание теории современной риторики, базовые понятия антропоцентризма
Риторика, мировоззрение, антропоцентризм, коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281325
IDR: 146281325 | УДК: 81‘42
Текст научной статьи Антропоцентризм в теории современной риторики
Бытовое сознание не испытывает необходимости воспринимать самое себя как центр Вселенной. Повышенное внимание к личности (ныне принято еще и проводить различие между личностью и индивидуальностью – особенно благодаря усилиям И. Канта и И. Гердера) не является специфической чертой антропоцентризма, в такой же степени это внимание характеризует, к примеру, и теоцентризм. Многие интерпретации личности выступают в философской форме, почти все они восходят к дуализму души и тела Р. Декарта: дуализм между Я и не-Я (И. Фихте); дуализм природы и духа (В. Гегель); воли и представления (А. Шопенгауэр); жизни и духа (романтизм и психоанализ); наличного бытия и существования (С. Кьеркегор, современный экзистенциализм).
Связь многих популярных ныне интерпретаций личности с христианским первоисточником достаточно очевидна, как очевидно и то, что каждая новая интерпретация, не удовлетворяясь традиционным христианским содержанием, ищет способ модифицировать его, в какой-то степени изменить. По существу, вся история нового времени развивается под этим знаком, иногда достигая высокой интенсивности, иногда угасая. Европейская Реформация оказалась особенно «плодотворной» в растворении и разрушении христианских идеалов, хотя Реформацию принято называть религиозным движением. Почти одновременно с «возрождением» появились гуманисты, которые в это самоназвание внесли квинтэссенцию своей идеологии. Гуманизм на место христианского идеала обожения человека поставил человекобожие, и вместо богоугодных дел призвал творить дела человеколюбивые. Так тварь стала выше Творца и филантропия заменила милосердие.
Один из самых ярких признаков европейской философии в целом выражается в бесконечной ценности личности. Этот признак одинаково относится и к секулярной, и к религиозной философии, хотя секулярная философия предпочитает не напоминать, что сознание личной ценности напрямую связано с учением о том, что все люди - творенья Божьи. И христианство, к примеру, учит, что человек является венцом творенья и что в тварном мире только человек несет в себе образ и подобие Творца. В чем же, в таком случае, разница в антропоцентрической и теоцентрический интерпретации личности?
Грань между одним и другим очень тонка и легко может ввести человека в заблуждение. Антропоцентризм - не то же самое, что атеизм: если атеизм утверждает безбожие, то антропоцентризм признает бога в самом себе, исповедует человекобожие, в котором личность обретает полноценную авто- номию. Антропоцентрических воззрений много, но автономность бытия человека является для всех них определяющим фактором.
Антропоцентризм может без особого труда уживаться и с самыми разнообразными религиозными представлениями, поскольку выбор подобной ориентации осуществляется самим человеком, т.е. не разрушает границ его воли. Христианский теизм на такую роль не подходит, так как он всецело исключает автономность бытия человека. В результате возникает парадоксальная ситуация, выражающаяся в том, что антропоцентризм допускает «оформление» автономности по принципам внешнего сходства с христианским теоцен-тризмом: такой человек исходит из искренней убежденности, что он является христианином, поскольку его бытие соответствует его же представлению (и, возможно, знанию), каким следует быть христианину. Между тем он – типичный представитель антропоцентризма, ибо он в большей степени моделирует мир вокруг себя, устанавливая самостоятельно, что в нем более важно и что менее, нежели занят познанием того мира, который окружает его независимо от его желания.
«Это индивид, отклоняющий возможность разделять с историей ответственность за ее ход и последствия, отбрасывающий как бессмысленные и опасные поиски «правды», «истины» и «смысла жизни» как такового, а не продиктованного конкретными прагматическими ситуациями. Такой индивид охотно следует совету «быть собой», но вряд ли способен объяснить, что это значит за пределами некоторой конкретной ситуации. Он не без удовольствия играет в интеллектуальные игры, связанные с поиском истины, но не держится за полученные при этом результаты и меняет свои убеждения, если считает это подходящим выходом из затруднительных положений. Его эстетические пристрастия неопределенны, они скорее подчинены чувству комфортности и удовольствия, которое может вызываться противоположными по смыслу объектами. <...> Он ценит в святынях их эстетическую и историческую значимость, но ни за одну из них не отдаст не только жизни, но даже временного благополучия. Он в высшей степени толерантен, живет сам и позволяет жить другим, боится и избегает ситуаций, когда ставится вопрос о пределах этой толерантности. Впрочем, если такой ситуации нельзя избежать, индивид скорее отодвинет эти пределы сколь угодно далеко, нежели признает необходимость решающего выбора» [1: 106].
Исследуя ценности, человек располагает их в собственную иерархию, т.е. выделяет более и менее значимые ценности. Ценность, обладающая наибольшей значимостью, может занимать место высшего блага, образуя этим систему индивидуальной этики. Не обязательно, чтобы вершина ценностной иерархии оставалась постоянной, – она довольно легко способна заменяться другим содержанием, особенно чутко реагируя на ситуационные обстоятельства. Индивидуальная этика легко допускает «двойной стандарт». Высшие ценности могут не раскрываться для других людей и даже утаиваться, если человек имеет достаточные для этого основания, определяемые, естественно, самостоятельно; в такой ситуации место высших ценностей может замещаться ценностями второстепенными. Если принять во внимание относительную легкость перестановок, то за феноменом ценностной иерархии личности следует признать такое свойство как мобильность. Она специфически проявляет себя в коммуникации: при столкновении оценок, вызванных несовпадением ранга - 43 - определенной ценности в двух независимых иерархиях (т.е. у двух разных коммуникантов), мобильность позволяет сохранять необходимый коммуникативный баланс: таким образом спасается внешняя сторона взаимодействия, поскольку «прыжки» в пределах иерархии ценностей неизбежно вводят в заблуждение партнеров, грозящее осложнениями в развитии общения или уже сейчас, или в перспективе.
Следуя логике автономности бытия личности, надо ожидать, что любой другой личности дается право на аналогичную независимость. Поскольку собственная автономия концентрируется вокруг Я, то в этой зоне уже нет места другому Я (или не-Я). Другая личность, возможно, выстраивает индивидуальную иерархию ценностей, которая не обязательно совпадает с другой. Во время общения эти несовпадающие иерархии оказываются в условиях взаимодействия. Поскольку ценность, занимающая более высокий ранг в индивидуальной иерархии, обладает и большей аргументативной силой, то в конкретном акте коммуникации подобная аргументация может оказаться в ситуации конфронтации, если указанная ценность занимает более низкий ранг в иерархии партнера или даже вообще в ней отсутствует. То же может происходить и в случаях, когда коммуникант воздействует на партнера, основываясь на предварительном выяснении места, которое в его иерархии занимает определенная ценность (например, лесть). Такой расчет может быть и довольно точным, но он необходимо ставит этический вопрос о соотношении цели и средств: далеко не каждая этическая система принимает названные средства.
Индивидуально структурированная ценностная иерархия готовит чрезвычайные трудности для риторической стратегии воздействующего, так как никогда нельзя предвосхитить особенности устройства иерархии ценностей индивида-партнера по коммуникации. Подобная стратегия может основываться на разных решениях.
Во-первых, она может опираться исключительно на собственную иерархию, рискуя «обнажить» избыточную степень эгоцентризма и (с высокой вероятностью) быть отвергнутой. Однако именно такой подход обнаруживает и очевидное достоинство, выражающееся в искренности намерения коммуниканта; искренность способна в определенной мере сбалансировать демонстрируемую эксцентричность.
Во-вторых, риторическая стратегия может опираться на иерархию ценностей партнера. Хотя доскональное знание ее затруднено и чаще всего только прогнозируется, в реальной коммуникации все же возникает ситуация, ставящая партнера на грань, за которой он либо следует навязываемой тактике обмана, либо распознает тактический прием воздействующего и как-нибудь реагирует: отвергает, подыгрывает и т.д. Неискренность намерения приведет, скорее всего, к неискреннему поведению участников общения, повышающему вероятность коммуникативной неудачи и ставящему под сомнение степень достигаемой эффективности.
В-третьих, риторическая стратегия может апеллировать к некоторой независимой от коммуникантов иерархии ценностей, которая (приблизитель- но) в равной степени охватывает (или должна охватывать) участников коммуникативного события. Преимущество данной стратегии в том, что она заметно снижает агрессивность по отношению к индивидуальной ценностной иерархии, т.е. как бы не прямо, а только косвенно, угрожает ей. Независимая ценностная иерархия, выполняющая роль «посредника» между коммуникантами, способна достаточно эффективно влиять на внешнюю эффективность общения, но она все равно не может избежать необходимости соотнесения с личной ценностной иерархией коммуниканта. «Посредник» лишь сглаживает такое столкновение, во многом имплицирует его, поскольку то, что не является приемлемым для участника общения, он может «молча» не принимать: в рассматриваемой ситуации партнерам легче всего «остаться при своем мнении», ибо свое мнение имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими мнениями.
Третий из названных вариантов - наиболее распространенный и эффективный способ организации риторической программы. В практической коммуникации при возникновении ситуации, когда баланс оказывается на грани разрушения, для его предупреждения, как правило, используются аргументы, указывающие на организующую роль посредника (нормы, правила, традиции, авторитеты и мн. др.). Такими аргументами возможно преодолевать возникающие коммуникативные затруднения, однако они обладают меньшей силой в сравнении с личностной иерархией ценностей.
Антропоцентризм сочетается с бесконечным разнообразием этических систем, но не может сочетаться с системами теистической этики, в том числе -этикой христианской. Этика, удовлетворяющая требованиям антропоцентризма, должна относиться к разновидностям этики автономной. Все ее виды рассматривают цель моральной деятельности как реализацию индивидом своего «внутреннего Я», которое считается совершенно уникальным, неповторимым, отличным от «Я» всех других людей. Нравственное значение всех поступков отдельного человека состоит не в том, что они отвечают каким-либо общим для всех людей моральным принципам, а напротив, не похожи на действия других людей. Такое понимание критерия нравственности, которое противопоставляет индивидуальное общему, основывается на моральном индивидуализме и приводит к крайнему волюнтаризму в истолковании нравственности. Множество «индивидуальных Я» включается в некую всеохватывающую систему «абсолютного Я» (последнее часто понимается как Бог), по отношению к которому первые выступают как части единого целого. Так утверждается якобы гармония между всеми людьми. Каждый, осуществляя в своих поступках лишь требования собственного «Я», служит целому (например, обществу) и всем его частям (отдельным индивидам).
Индивидуализм уводит человека, по известному выражению И. Кона, от восприятия социальных проблем как своих личных, обрекает индивида на мировоззренческую замкнутость. Моральная ориентация индивидуализма -это эгоизм. Во всех своих видах (не имея в виду «разумный эгоизм» Н. Чернышевского, который все-таки остается эгоизмом) эгоизм означает оказание предпочтения при выборе линии поведения собственному интересу перед интересами окружающих людей. В истории нравственного сознания человечества эгоизм как моральное качество обыкновенно оценивался негативно. В этике различные теории эгоизма исходят из утверждения, что человек руководствуется в своих действиях только личными интересами: с одной стороны, утверждается, что человек – эгоист «по природе», поскольку от рождения ему свойственно стремиться к наслаждению и избегать страдания; с другой – человек в своей деятельности неизбежно преследует собственные интересы. Теории эгоизма открыто конфликтуют с религиозной этикой. Эгоизм обладает специфической чертой, которая делает его чрезвычайно стойким, – естественностью: что может быть более естественным, чем осознание собственного «Я»?
Любая попытка противостоять эгоизму может восприниматься как посягательство на объективную ценность личности и индивидуальности, которая в отличие от личности включает в себя неповторимое, специфическое в индивиде. Индивидуальность имеет индивидуальный ценностный характер. Этическая ценность личности – сохранение верности самому себе, в подлинности и положительности ее сущности. Нравственная ценность личности состоит в основном направлении, избираемом в процессе самоосуществления основополагающих ценностей.
Если действительно исходить из презумпции автономной этики, по которой содержательный аспект ценностей находится во власти самой личности, то индивидуальное осуществление основополагающих ценностей перестает требовать от человека особого напряжения, так как сама жизнедеятельность превращается в невольное осуществление желаемого.
Конфликтные ситуации, в которых человек вплотную соприкасается с неизбежностью признания факта, что содержательный объем ценностей не является исключительно субъективным, не могут не возникать в жизнедеятельности человека. Его автономность, которой он бесценно дорожит, должна заставлять человека «примирять» субъективное с объективным в такой степени, чтобы автономность не оказалась разрушенной (а это возможно и часто случается).
При разрушении автономности возможен переход к иной этической и мировоззренческой системе, но возможен и возврат. Смена этической системы, как и мировоззрения, – чрезвычайно сложный и болезненный процесс, с очевидностью свидетельствующий о том, что истинные бои, в которых мы участвуем, совершаются на «невидимом фронте» – там, где царит дух. Для позитивного взгляда человек остается той же самой личностью, индивидуальность которой обладает неизмеримо большей ценностью, нежели какие-то абстрактные, обезличенные идеи, включая и сами ценности.
Ситуация взаимодействия в условиях антропоцентризма характеризуется очевидной сложностью – партнер представляет собой аналогичным образом устроенную конструкцию, во всяком случае в отношении равнозначной автономности. Однако за этой констатацией сходство заканчивается, так как внутреннее содержание конструкции задается индивидуальностью, а она тем и специфична, что не допускает повторений.
Этическая автономность, по сути, является общей характеристикой для партнеров, но внутри автономной этики наблюдается чрезвычайное разнообразие частных этических систем, которые зачастую выглядят непримиримыми: даже эвдемонизм и гедонизм в проекции на реальную жизнедеятельность способны вызывать конкурирующие интерпретации, не говоря уже о крайне эгоистических этических принципах. В обычных условиях коммуникация осуществляется не в пределах объединения носителей только идентичных этических взглядов (т.е. в реальной коммуникации не действует правило типа: гедонист вступает в общение лишь с гедонистом и т.п.), поэтому столкновение различных этических систем становится неизбежным.
Автономная этика, следуя условию самоосуществления личности -оставаться верным себе, требует оставаться в границах представляемой этической системы, а это значит, что логически обоснованным результатом коммуникации будет остаться при своем мнении. Между тем вопреки ожидаемой логике результат взаимодействия в реальной коммуникации часто бывает противоположным: мнения изменяются, верность себе не всегда есть верность представляемой этической системе, результаты коммуникации проникают даже в сферу мировоззрения и модифицируют его. Всего этого, казалось бы, не должно происходить: либо, что маловероятно, подводит логика, либо - этическая система, поскольку она в этих местах перестает функционировать или погашается какой-нибудь более свойственной человеку этической системой, которую он ошибочно воспринимает за другую. Как бы то ни было на самом деле, фактически в условиях антропоцентризма удается наблюдать по крайней мере две существенные черты, характеризующие автономную этическую систему: 1) очевидная неопределенность содержательного аспекта основополагающих ценностей позволяет наполнять их индивидуальным содержанием и удерживать потенциальную мобильность содержательного объема, - при возникновении необходимых условий этот объем может сужаться и расширяться; 2) только отсутствие пристального внимания со стороны личности к функционированию собственной этической системы позволяет не обнаруживать конфликтность индивидуальной этики по отношению к реальной коммуникации (т.е. при столкновении с другой индивидуальной этикой). Оба обстоятельства готовят определенные затруднения для взаимодействия с партнером по коммуникации, поскольку предполагают затраты средств на достижение определенности. Однако в это же самое время названные обстоятельства обладают и конструктивным потенциалом: неопределённость обоих видов препятствует действительной автономизации коммуникантов, высокая степень которой может быть лишь осложняющим общение фактором, а абсолютная форма автономии, к счастью для общающихся, недосягаема, - она бы исключала возможность взаимодействия.
Конкретный коммуникативный акт в большинстве случаев включается в цепь коммуникативных событий с участием тех же самых партнеров. Обна- руживаемая в этом акте помеха может фиксироваться на фоне в целом положительного развития общения, состоящего из многократных взаимодействий. Вообще общению присущи две тенденции сотрудничества коммуникантов – их сближение (солидаризация) и отдаление (дистанцирование), что соотносимо с понятием глобальной стратегии общения. Глобальная стратегия, которая при анализе коммуникативного события или даже при его планировании относится к общим знаниям о развитии общения, способна влиять на оценку эффективности взаимодействия: при общей тенденции к солидаризации в не достигающем желаемой эффективности коммуникативном акте глобальная стратегия выравнивает эффективность до приемлемого уровня; в противоположном случае и очевидная эффективность может занижаться. Однако нельзя эти особенности развития общения считать строгим правилом – тенденция к солидаризации не является гарантией успеха взаимодействия; и при этой тенденции не исключается «роковая» неудача, способная разрушить даже длительно удерживающуюся тенденцию, т.е. удачно складывающееся общение нуждается в постоянной поддержке достигнутого уровня и заботе о его страховании.
Наблюдая столь многочисленные препятствия на пути взаимодействия и понимания друг друга и допуская, что очень многое остается незамеченным, нельзя не удивляться тому, что людям вообще удается (хотя бы и плохо) понимать друг друга – должно быть, это происходит вопреки всему тому, что коммуниканты знают об общении, и тому, что они, общаясь, делают. Тем не менее, люди слишком часто оказываются вынужденными признать несовершенство своего общения и искать пути его улучшения.
Оптимизация антропоцентрированного общения представляет собой трудно решаемую задачу. В таких условиях не только другой коммуникант – настоящая «тайна», но во многом и себя человек должен сознавать той же «тайной».
Обретение большей уверенности в коммуникативном поведении осуществимо через критическое изучение собственных мировоззренческих и этических предпосылок взаимодействия. Их изучение в замкнутой системе мало вероятно; скорее всего, потребуется когнитивный выход за пределы своей системы с целью сопоставления ее с другими. Таким путем представление о несовпадении мировоззренческих и этических предпосылок общения сможет стать базовым элементом планирования риторического поступка. Разумеется, люди делают это и без всякого целенаправленного изучения философии, этики, психологии и пр., но речь идет о сознательном поиске путей эффективизации воздействия/взаимодействия, а в этом деле кроме (пусть богатого) опыта и (пусть исключительной) интуиции требуется и специальное знание. Конечно, вряд ли человек не знает о существовании других мировоззрений, этических систем и принципов, – речь об ином: человек, решая задачу оптимизации общения, должен уметь видеть, что (и как) его мировоззрение и его этические представления проявляются практически в каждом поступке и определяют качество этого поступка. Подобная программа при хорошем результате может существенно расширить «образ» партнера по коммуникации, если собственная позиция (комбинация мировоззренческих, этических предпосылок и «стиля» коммуникации) способна придавать другому коммуниканту равнозначный статус: зная, как мировоззрение и этическая система сказываются на собственном коммуникативном поведении, легче представить себе (или хотя бы допустить), что с партнером происходит нечто аналогичное. Если такая степень достигается, риторическая программа должна подвергнуться редукции в отношении таких средств воздействия, которые оцениваются как недопустимые в адрес самого себя (= «разумный эгоизм»). Так выглядит, говоря условно, программа совершенствования личности, вернее, ее стартовая фаза. Неразрешимым вопросом, однако, остается побудительная причина, поскольку принятая здесь отправная точка (= осознаваемая необходимость поиска путей эффекти-визации воздействия/ взаимодействия) всерьез такой первопричиной быть не может, но может быть лишь ее частью или закономерным следствием истинной первопричины.
Антропоцентризм как будто не препятствует самосовершенствованию личности, но никоим образом не накладывает таких обязательств на партнера. Исключая из риторической программы недопустимые средства воздействия, нет реальных оснований рассчитывать на взаимность, так как партнер, вероятно, совершенствуется в своих, имеющих значимость для него, координатах, которые в оптимальном случае у взаимодействующих совпадут, фактически же в границах автономии никогда не совпадут. Тем самым, если исходить из традиционно риторического приема – прогнозировать реакцию партнера, основываясь на своем видении развития общения, то никакого рецепта оптимизации этого события быть и не может, да он и не требуется, – при любых обстоятельствах прогноз останется субъективным.
Если же в равнозначном статусе партнеру отказывается, легитимизируются в том числе такие средства, которые «оправдываются» целью, а сам вопрос соотношения средств и цели (относительного и абсолютного блага), получающий разное решение в различных системах, является одним из главных вопросов этики.
«Возможность различных решений этой проблемы связана с тем, что сами этические системы можно разделить на два класса. К первому относятся те, в которых моральной оценке подлежит конкретный поступок. Эти системы учат тому, как действовать, чтобы поступок субъекта можно было оценить как морально хороший или по меньшей мере морально допустимый. Ко второму – те, которые учат, каким следует быть, то есть ставят во главу угла моральное состояние субъекта, а не его конкретные поступки. Эти этические системы учат тому, как быть добродетельным, а не как поступать морально. Ориентация моральных оценок на поступок, а не внутреннее состояние субъекта, стала преобладающей в эпоху Нового времени. (...) Но это уже ведет к тому, что само понятие морали оказывается бессмысленным, а этические системы пытаются описать и обосновать некую фикцию, не имеющую отношения к жизни» [2: 244–245].
Антропоцентризм поощряет условность морали и в конечном итоге ее убивает. Человек же продолжает существовать, продолжает общаться; в лучшем случае он видит фиктивность этической автономности и преодолевает ее.
Если этого не происходит, человек продолжает блуждать по лабиринтам антропоцентризма в надежде «теперь» найти верный путь к выходу, либо прибегает к одной из бесконечных уловок, с помощью которой пытается сублимировать отчаянную тягу к поиску. Может быть, на какое-то время эта тяга действительно ослабеет, но она непременно вернется, – такова природа человека.
Список литературы Антропоцентризм в теории современной риторики
- Порус В.Н. «Конец субъекта» или пострелигиозная культура?//Разум и экзистенция: Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб.: РХГИ, 1999. 402 с
- Шрейдер Ю.А. Этика. М.: Текст, 1998. 271 с.