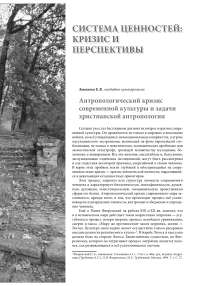Антропологический кризис современной культуры и задачи христианской антропологии
Автор: Зимакова Екатерина Викторовна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Система ценностей: кризис и перспективы
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы антропологического кризиса современной культуры и способы их решения путём обращения к новому святоотеческому синтезу (неопатристическому синтезу) образованности и духовной традиции, ориентированной на обожение человека. В связи с чем, автор статьи обращается к трудам П. А. Флоренского, Г. В. Флоровского, архим. Софрония (Сахарова) и др.
Антропологический кризис, антропология, неопатристический синтез, духовная традиция, п. а. флоренский, г. в. флоровский, архим. софроний (сахаров)
Короткий адрес: https://sciup.org/170173757
IDR: 170173757
Текст научной статьи Антропологический кризис современной культуры и задачи христианской антропологии
Антропологический кризис современной культуры и задачи христианской антропологии
Сегодня уже стал бесспорным для многих вопрос о кризисе современной культуры. Он проявляется не только в мировых и локальных войнах, во всё учащающихся межнациональных конфликтах, в угрозе мусульманского экстремизма, возникшей на фоне европейской глобализации, не только в политических, экономических проблемах или экологической катастрофе, грозящей человечеству мутациями, болезнями и вымиранием. Все эти явления, масштабные и, безусловно, заслуживающие отдельных исследований, могут быть рассмотрены и как следствия некоторой причины, укоренённой в самом человеке. В корне этих проблем лежит глубокий и обостряющийся на современном этапе кризис — кризис человеческой личности, выразившийся в девальвации её ценностных ориентиров.
Этот процесс затронул всю структуру личности современного человека и характеризует биологическую, психофизическую, душевную, духовную, экзистенциальную, эмоциональную, нравственную сферы его бытия. Антропологический кризис современного мира заключается, прежде всего, в том, что происходит процесс всё усиливающегося разрушения личности, внутреннего обеднения и упрощения человека.
Ещё о. Павел Флоренский на рубеже XIX и XX вв. заметил, что и в человеческом мире действует закон возрастания энтропии — усугубляется процесс потери энергии, процесс всеобщего уравнивания, смерти и хаоса. «Миру же противостоит закон эктропии, жизни — Логоса. Культура свою задачу может осуществить только раскрывая высшие ценности религиозного культа» 1. В борьбе Логоса и хаоса она должна быть на стороне Логоса. Единственным существом, по Флоренскому, которого не затрагивает процесс энтропии, является человек, как развивающаяся и всё усложняющаяся система.
Многие современные исследователи, полемизируя с Флоренским, утверждают, что процесс потери энергии в мире закономерен. Вселенная, мир и культура не могут накапливать и аккумулировать энергию бесконечно, не теряя её, иначе неподвижная энергия мира обернётся смертью системы, как стоячая вода озера превращает его в болото. Не останавливаясь на этих теориях культуры, акцентируем своё внимание на человеке.
Необходимо исследовать, является ли современный человек по-прежнему сложносоставным существом или же процессы «возрастания энтропии» проникли в его внутренний мир и превратили человека в пустой, по инерции функционирующий, механизм, в «зомби» современной цивилизации.
Всестороннему изучению этой проблемы на данном этапе мешает и понижение статуса гуманитарных наук в современном российском обществе. Возникает закономерный вопрос: почему государство не заинтересовано в развитии гуманитарных наук, то есть наук, связанных с человеком и областью его творчества? Почему отдаётся предпочтение естественным и техническим наукам, занимающимся вопросами природы, а не человека? Неужели окружающий нас мир в качестве объекта исследования более ценен, нежели сам человек, которого этот мир окружает, субъект, воспринимающий этот мир, изучающий его и выводящий его законы на основе этого восприятия?
Действительно, человек гораздо лучше изучил мир вокруг себя: мир первой естественной природы и мир культуры — мир второй природы, своё создание, нежели себя самого. Естественные науки давно миновали тот кризисный этап, к которому приблизились науки гуманитарные. В прошлом остались споры о законах мироздания, был выработан специальный язык, описывающий эти законы, которые были сформулированы и обоснованы .
В гуманитарной же области (вопреки её самоназванию) отсутствует даже обобщающая, синтезирующая наука, которая бы занималась постижением человека в целом — отсутствует наука о человеке. Психология, философия, культурология занимаются лишь отдельными вопросами человеческого бытия. Построить же «теорию человека» пока не удалось ни одной из них.
С 1930-х гг. в психологии начинают появляться первые теории личности. По оценке
С. Р. Мадди, многие западные теории личности, включая и современные, больше похожи на мифологию, чем на теоретическую науку 2.
Между тем современная цивилизация создаёт у человека иллюзию преодолимости, если не всех, то большинства сложных проблем простыми способами. Беспроблемное, удобно устроенное общество — вот результат науки и техники, вот предел мечтаний и стремлений, господствующих в социуме и культуре. Культура берёт на себя функцию решения витальных проблем человека с самого детства, навязывая ему благодушные идеалы спокойствия и безмятежности. Но основные антропологические проблемы человека, тем не менее, никуда не исчезают. Человек оказывается бессильным перед их лицом, не вооружённым даже знаниями о механизмах их преодоления.
В массовой культуре и не только в ней господствует миф о том, что проблемы современного человека имеют простое решение. «Позвоните нам, и мы решим все ваши проблемы!» — гласят лозунги с плакатов рекламных щитов. И человек вместо того, чтобы выявлять причины своих проблем, анализировать свои действия, глубоко вникать в суть сложившейся ситуации, ищет панацею — простое средство от всех болезней современной цивилизации. Обещание «прими таблетку — и будешь здоров» — напоминает первое искушение человека (предложенное змием яблоко с древа познания добра и зла должно было сделать людей богоподобными), искушение простотой псевдо-обожения.
Из лозунгов, которыми заполнено современное внешнее пространство, получается, что путь достижения совершенства прост и одномоментен. Это не путь долгого саморазвития и самосовершенствования, занимающий всю жизнь человеческую, не имеющий предела, требующий тяжёлых усилий и воли, и разума. Современный человек полон подобных иллюзий и, как следствие, разочарований. Он либо не понимает, почему у него не получается жить просто, либо он становится «одномерным человеком».
Разрешение этой ситуации — в поиске новых путей преодоления внутренних и внешних противоречий человеческой личности и человеческого общества. И найти их, как представляется, возможно лишь продвигаясь между Сциллой ответов, данных эпохой западно-европейского просвещения, и Харибдой традиционной культуры.
Выработка этих механизмов невозможна ни на почве гуманистических представлений о человеке, ни на основе безличностного мировоззрения традиционной культуры, взятых в отдельности. Необходимо обращение к религиозно-антропологической традиции, широко представленной лишь в христианстве, к созданию нового святоотеческого синтеза, творчески освоенного и изложенного современным поколением христианских исследователей.
Идею неопатристического синтеза, который призван преодолеть кризис европейской христианской культуры, выдвинул впервые о. Георгий Флоровский ещё в 30-е гг. ХХ в. Современное христианство, по его мнению, из-за расщеплённости умозрения и церковного опыта, не даёт ответа на жизненные вопросы человечества, хотя и призвано к этому изначально. Именно нео-патристический синтез сможет вернуть единство христианского мировоззрения и аскетики, богословия и молитвы, догматики и евхаристии, сделает живым святоотеческий опыт, вернёт христианству экзистенциальную сущность.
О человеческой личности на должном уровне впервые заговорили лишь в христианском мире. Можно утверждать, что дохристианский и нехристианский миры этого понятия в достаточной мере не разрабатывали. Лишь на европейском Западе впервые было предложено её определение благодаря именно тому, что лишь христианство высоко оценило достоинство человека. Однако западные определения личности давались уже в схоластической религиозной традиции или носили секулярный характер.
Православное богословие и религиозная философия (труды Г. В. Флоровского, В. Н. Лос-ского, И. Мейендорфа, А. С. Панарина, С. С. Хоружего и др.) могли бы предложить миру новое видение и сути актуальных проблем человечества, и способов их решения, и сформулировать целый ряд понятий христианской антропологии, которая стала бы наукой о человеке, рассматри- 30 вающей его как целостное существо не только в эмпирическом плане, но и в онтологических его характеристиках.
Обращение к патристике не должно быть лишь изучением текстов творений святых отцов, а прежде всего практическим восприятием их образа жизни, непременно включавшего в себя и образование, и литургическую практи-
ку, и регулярное участие в евхаристии, и аскетическую работу над собой, в том числе молитву, исправление помыслов, целью которых были бесстрастие, святость и обожение. В то же время церковная практика должна получить новое богословское осмысление, чтобы сами практикующиеся превратились бы из пассивных потребителей в активных участников процесса, стоящих на Литургии осмысленно, воспринимающих сердцем и умом каждое произносимое слово. Христиане как единственные носители смысла не должны отказываться от богословия в пользу невежества, ибо «если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям» (Матф. 5:13).
Неопатристический синтез вернёт современное христианство на путь православного кардиогнозиса, когда трансцендентный миру Бог становится имманентен человеку, как Реальность, которая «не предстоит нам извне, а дана нам изнутри, как почва, в которой мы укоренены и из которой мы произрастаем» 3. В то же время человек на пути кардиогнозиса получает обратную способность — трансцендирования — соучастия в бытии за пределами мира и самого себя.
Святой Ириней Лионский весь смысл христианства, который одновременно является и призывом ко всему человечеству, а не только к отдельным духовно-одарённым аскетам, богословам и философам, выразил в одной фразе: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
Эта фраза объясняет все метания человечества, все его духовные поиски, которые так или иначе связаны с кумирами. Пока человек не поймёт, что объектом его стремлений является Бог, и что лишь в Нём можно найти ответ на витальные вопросы, человек не может обрести духовно-мировоззренческую основу своего бытия; пока человек не узнает о своём призвании и не начнёт исполнять его, он останется секулярным, одномерным, мятущимся и неудовлетворённым жизнью существом.
Итак, во-первых, неопатристический синтез должен быть осуществлён в воссоединении умозрения богословия и церковной, и аскетической практики. Эту линию в современный период развивали ученики и последователи афонского старца Силуана, которого многие исследователи христианства считают святым отцом Нового времени. Старец Силуан Афонский был представителем исихастской традиции и называл лишь аскетов истинными богословами: «кто чисто молится, тот богослов» 4. Его линию продолжили богословы-исихасты архимандрит Софроний Сахаров, архимандрит Захарий Захру, осуществлявшие синтез богословской рефлексии и практики. Их работы о Боге и человеке хоть и вызывают полемику у современных исследователей, но представляют собой попытку создания живого богословия, основанного на аскетике.
Во-вторых, неопатристический синтез может дать новое адекватное представление о человеке, такое определение человеческой личности, которое поможет современному человеку по-новому осмыслить своё место в этом мире и в мире трансцендентном, свои взаимоотношения с другими людьми, с Богом и с самим собой.
Предпринять подобную попытку тем более важно потому, что европейцы-христиане всё чаще не находят более в христианстве ответов на свои вопросы, они не находят в нём и себя. Вновь и вновь приходится наблюдать обращение к другим религиозным традициям: индуизму, буддизму, иудаизму, языческим культам. Хоть подобное обращение и носит характер моды, в первую очередь оно свидетельствует о продолжающемся духовном поиске людей, которым Истина христианства показалась неинтересной, неживой, а главное — они не смогли обрести в ней себя, словно она — не о них.
Дело в том, что со временем человечество всё тоньше и точнее определяет понятия, которыми оперирует. И святые отцы первых веков говорили более приблизительно, чем святые, жившие позднее. Человек оттачивает свои формулировки, всё чётче разглядывая в Истине новые грани. Необходимо учитывать ещё и тот факт, что Истина в христианстве отвечает не на вопрос «что», а на вопрос «Кто» и постепенно раскрывается человеку и человечеству в целом. Бог дан христианам не только в учении, но и в опыте, и в Откровении. Но христиане не хранят Его лишь в памяти, как артефакт, а постоянно принимают участие в Его бытии. Поэтому и Писание имеет своё развитие в Предании, и Предание не сформировано когда-то однажды, а развивается и по сей день. В данном случае постулат: чем древнее святой отец — тем он более прав — неверен. Церковь накапливает свой соборный опыт и ей постоянно открываются новые оттенки Истины.
Знание об Истине, как об Истине живой, отсутствует на Западе в рационалистическом типе схоластического богословия. Ряд современных католических авторов обращает на это внимание западных богословов, призывая вернуться к патристике и отвергнуть схоластический метод.
Выход из кризиса возможен на путях возвращения к понятию личности, основанному на православном византийском синтезе образованности и духовной традиции, ориентированной на обожение человека. Это полнота идеала личности, который интуитивно представлялся Флоровскому и который может быть идеалом для католиков и православных, так как первые забывают об обожении, а вторые, помня об обо-жении, забывают о необходимости внешнего образования.
Список литературы Антропологический кризис современной культуры и задачи христианской антропологии
- Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. СПб., 2002.
- Софроний (Сахаров). Старец Силуан Афонский. М., 1996. С. 124.
- Флоренский П. А., священник. Сочинения в 4 т. / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (Трубачева А. С.), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. Москва, 1994. Т. 1. С. 27.
- Франк С. Л. Реальность и человек: метафизика человеческого бытия. Париж, 1956. С. 34.