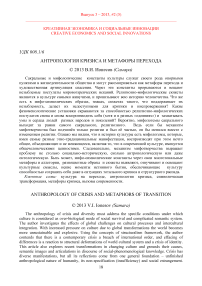Антропология кризиса и метафоры перехода
Автор: Ионесов Владимир Иванович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социальные преобразования и выборы современности
Статья в выпуске: 2 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
Сакральные и мифологические константы культуры служат своего рода опорными пунктами в жизнедеятельности общества и могут рассматриваться как метафоры перехода и художественная артикуляция спасения. Через эти константы прорываются и вещают незыблемые постулаты мировоззренческих исканий. Религиозно-мифологические сюжеты являются в культуре самыми живучими, и пронизывают всю историю человечества. Что же есть в мифо-символических образах, знаках, сюжетах такого, что поддерживает их незыблемость, делает их недоступными для критики и ниспровержения? Какие феноменологические установки скрываются за способностью религиозно-мифологических постулатов снова и снова воспроизводить себя (хотя и в разных «одеяниях») и захватывать умы и сердца людей разных народов и поколений? Вероятно, мифологемы сакрального выходят за рамки самого сакрального, религиозного. Ведь если бы механизм мифотворчества был подчинён только религии и был её частью, он бы менялся вместе с изменением религии. Однако мы видим, что в истории культуры есть мифологемы, которые, имея самые разные этно-традициональные манифестации, воспроизводят при этом нечто общее, объединяющее и не меняющееся, включая то, что в современной культуре, именуется общечеловеческими ценностями. Следовательно, механизм мифотворчества выражает проблему не столько социально-историческую, сколько антропологическую или даже онтологическую. Быть может, мифо-символические константы через свои многотональные метафоры и аллегории, разноцветные образы и сюжеты выявляют, озвучивают и освещают культурные смыслы, некие моменты истинного бытия, обеспечивающие культуру способностью сохранять себя даже в ситуациях тотального кризиса и структурного распада.
Культура на переходе, антропология кризиса, символическая трансформация, метафоры кризиса, вызовы современности
Короткий адрес: https://sciup.org/14238961
IDR: 14238961 | УДК: 008.1/6
Текст научной статьи Антропология кризиса и метафоры перехода
Среди наиболее ярких, распространённых и очевидных в культуре мифосимволических сюжетов выделяются мифологемы грехопадения, изгнания и искупления. Все эти сюжеты по-разному представлены в мировоззренческих традициях исторических эпох и культур. Но всегда выражают некое побуждение к культуре, к узловым или опорным пунктам родовой онтологической устремлённости людей: отстоять право на жизнь, упорядочить мир, распознать реальность, «разглядеть, что истинно, что ложно», «что такое хорошо и что такое плохо».
Согласно Паулю Тиллиху история грехопадения в том виде, в котором она изложена в Книге Бытия описывает на мифологическом языке «уникальное событие экзистенциального отчуждения или «перехода от эссенции к экзистенции», претендующее «на вселенскую значимость и ценность» [Цит. по Бирлайн 1997: 101-103]. Культура, тем самым, выступает в качестве перехода человека от «царства природы» к антропосфере, или способу надбиологического обозначивания, ознаменования, обустройства природы. В этом понимании культурогенез следует рассматривать как своего рода наведение порядка внутри человека, так и в окружающем его социальном и природном мире. На этапе становления культуры, где всё для человека было изменчиво, неведомо и неукротимо, порядок выступал единственным условием и гарантом выживания. Наведение порядка начинается всегда с формотворчества, в основе которого лежит преобразование природы или ее опредмечивание. Как надбиологический способ человеческой самоактуализации, процесс формотворчества позволял обозначить и
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS проименовать реальность, а значит, ее опредметить, упорядочить и обезвредить («Глазам страшно, а руки делают»). Проименованная реальность уже не так страшна и хаотична. Имя (образ, знак) есть некая остановка во времени, т.е. привнесение в неудержимую изменчивость природы моментов постоянства, имагинативной фиксации. Воображение как формотворчество, тем самым, позволяло закадрировать природу, а, следовательно, ее экранизировать, пиктографировать для человека. Природа, благодаря имагинации стала видимой и различимой, т.е. мистифицированной, мифологичной, следовательно, узнаваемой. Поскольку всякая форма есть оконтуренная (ограниченная) в пространстве и замкнутая в себе реальность, формотворчество не может не быть способом выстраивания границ. От-граничивание антропосферы означало ее отделение от стихии безграничной, т.е. открытой природы. То, что не имеет границ, всегда страшит, мысль в ней теряется, свет гаснет, тепло рассеивается. Если для всякой животной сущности природа есть уже ограниченное (замкнутое) и «регламентированная» инстинктами среда обитания, то для человека природное окружение представляет собой открытое пространство, уходящее в бесконечность. Но там, где нет границ, там нет ничего. Быть – значит переводить ничто в сущее, бытийное, окультуренное. Именно культура позволяет человеку обустраивать и видеть границы, следовательно, трансформировать бесконечное в конечное, множественное в единичное, быстротечное в вечное. Обозначая реальность, человек как бы освящает (мифологизирует) мир, делает его доступным и прогнозируемым. Больше того, обозначенные границы «картографируют» изначально заданное культуре открытое пространство и обеспечивают человека необходимым культурно-знаковым путеводителем. Разграничение реальности становится важнейшим условием самоутверждения человека/общества. Культуротворчество всегда ставит человека на границу жизни и смерти, и вся
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS культура (порядок) предстает надбиологическим способом преодоления смерти (хаоса). Человек – постовой культуры и это пограничность задает, в конечном счете, восприятие всех культурных манифестаций. Так совсем не случайно со словом «беспредел» мы связываем чаще всего нечто отрицательное, хаотичное, чему-то угрожающее, тогда как слово «предел» более нейтрально для нашего восприятия. Быть может, действительно, суть культуры – выстраивание границ/пределов. Показательно, что лексема предел происходит от делить, делать, упорядочивать. В этом ряду «беспредел» как бездеятельность, пустая трата времени, следовательно, раз-упорядочивание, стирание границ, бесформенность, безобразие - это вызов культуре, чреватый ее разрушением. Этимологические ссылки на пограничность и предел дают и другие распространённые лексемы: право(ый) (от «правда», т.е. передний), простить (буквально значит «освободить от грехов», от простой – впередистоящий), преступление (от пре-ступать), закон (от «конъ» - «предел, граница», «то, что находится за пределом, что было изначально»).1
Таким образом, конструирование границ или лиминацию можно считать экзистенцией культуры, важнейшим императивом ее выживания. Нельзя не отметить при этом и другой аспект проблемы. Дело в том, что механизм разграничения (лиминация) реальности как инструмент выживания культуры, может быть в некоторых ситуациях, направлен на ликвидацию всех угрожающих жизненной стабильности явлений, в том числе, на укрощение, обезвреживание так называемых нарушителей порядка, т.е. людей преступивших границу табуированного культурного пространства. Это
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS обусловлено тем, что очертить угрожающие обществу силы означает обезопасить, оградить себя от них. Отсюда, в ситуации кризиса, стремление к культурному отгораживанию, изолированию и сверхужесточению границ. Однако сверхограничение есть такое же нарушение порядка, как и делиминация, т.е. стирание границ, и влечет за собой ту же угрозу жизни, как и раз-упорядочивание культуры. Так же как, выражаясь мифологическим языком, изгнание из Сада Эдема было наказанием за преступление и означало переход человека от упорядоченного существования к суровому выживанию в открытой, неразграниченной реальности.
Тема изгнания широко распространена в различных мифологических традициях мира. Больше того, изгнание есть архитипичное основание культуры, выразительно представленное в библейских сюжетах об Адаме («И выслал его Господь Бог из Сада Эдемского», Бытие, 3: 23) и Каине («Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле», Бытие, 4: 12), символически отображающие переход от эссенции к экзистенции (по П.Тиллиху) в oнтологии человека. Изгнание больше, чем наказание. Это обезличивание, исчезновение и врата смерти («Наказание моё больше, чем снести можно», Бытие, 4: 13). И потому для всякого скитальца вся действительность враждебна, всюду таится опасность и угроза («Всякий, кто встретится со мною, убьёт меня» сетует Каин, Бытие 4: 14).
В раскультуренном мире, т.е. там, где нет ритуальных маркировок, всегда властвует хаос, идет война всех против всех. Мифо-ритуальные технологии сдерживают эту разрушительную стихию посредством ее символико-знакового обозначения. Знак, символ, имя, образ делают узнаваемым мир людей и вещей и выстраивают социально-этические границы их взаимодействия («И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его», Бытие, 4: 15). Ни с этого ли «знамения» ведет своё начало культура
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS нормативно-правовых отношений в обществе? Не в этой ли библейской метафоре содержится ответ на вопрос – что есть закон? («Закон положен не для праведника», 1 Тим.,1а). По словам Сократа: ради добрых людей закон бы не возник. «Знамение» возвращает скитальца в лоно нормативных ценностей и вновь делает его участником культурной жизни, где ему даруется шанс искупления греха. «Устранив причину страха - грех, устранишь и страх, а тем более наказание», – утверждал Гераклит [Фрагменты греческих философов 1989: 214].
Очевидно, что в основе всех мифотворческих исканий лежит родовая недостаточность человека. С помощью мифо-символической экранизации люди пытаются укротить разрушающий культуру хаос и минимизировать онтологический «ожог от реальности» [Марсель 2004]. Человек предопределён к мифотворчеству, в силу отсутствия своей изначальной биологической специфицированности, т.е. по причине своего антропологического отчуждения от природы. Мифологическая традиция связывает это отчуждение с грехом и последующим изгнанием человека из Сада Эдема. Всё началось с непослушания и вкушения запретных плодов с древа познания. Знания позволили человеку увидеть различия. Но одновременно обретя разум, человек увидел слишком большой для его понимания мир, мир без границ и порядка, без тепла и света, без согласия и защищённости, ставших после изгнания (отчуждения от природы) такими необходимыми для его выживания. В этом мире разум видел только изменчивость и неопределённость, но одновременно именно разум и его высшая сила воображение предопределили человека к созиданию и творчеству, воззвали (принудили) его к поиску того, на что можно действительно опереться, где и посредством чего найти для себя спасение. Изгнание обусловило принуждение человека в поте лица своего непрестанно бороться за право на жизнь, искать и обустраивать своё «место под солнцем».
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Человек обрёл разум, но вместе с ним обрёл открытость, незавершенность, недостаточность и порыв к достраиванию самого себя и своего дома в природе. Человек, как в значительной мере освобождённое от природы существо (поскольку в человеке наличествует лишь часть природы), пребывает в состоянии перманентной онтологической недостаточности . Недостаточность делает мир предельно осознаваемым, что порождает мучительную боль и страдания. Сознанию в этом мире «узко и больно» [Гефтер 2004]. Там, где есть недостаточность, там есть незавершенность . Недостаточность проистекает из незавершенности. Незавершенность проистекает из открытости человека. Открытость есть следствие освобождённости человека от тотальной власти природы. Будучи освобождённым, человек лишается внешних границ, и вступает в мир безграничной изменчивости стихии. Разум «отделил» человека от окружающего его мира, но, и позволил ему увидеть этот мир со стороны – теперь он, как бы, не в прежнем и привычном для себя мире природы, но он в стороне от него. В этом плане, человек – это своего рода посторонний природы, он её будто странник, изгнанник. Обретя разум человек , в известном смысле, одновременно лишился и своего покровительства в лице природы или, в мифологическом понимании, Бога. «В человеке лишь часть природы» [Лосев 1990] или часть Бога. То, что было свойственно лишь Богу (природе) теперь стало возможным делать и человеку. Но обладание разумом порождает амбивалентность возможностей. То, что человек разумный видит, всегда граничит с тем, что он не видит. Осознание своего могущества сомкнулось с осознанием своего бессилия, отчаяния. Разум нуждался в новой реальности и для этой реальности требовался новый человек. История человека разумного – это вопрос об истории сотворения человеком самого себя, очеловечивание или вхождение в природу, путём её опредмечивания, окультуривания. «Человеческое предназначение, – пишет М.Мамардашвили,- есть следующее:
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS исполниться в качестве Человека. Стать Человеком. Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье – это символ, соотнесено с которым человек исполняется в качестве Человека. Человек не создан природой и эволюцией. Человек создается, Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная создаваемость и задана для него в зеркальном отображении самого себя символом «образа и подобия Божьего». То есть, Человек есть такое существо, возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом индивидууме» [1988].
Мифологема искупления выражает способ преодоления греховности или биологической недостаточности и отчуждённости от природы. Искупление – это, своего рода, наказание природой человека за овладение им способности с помощью мысли выходить (абстрагироваться) за пределы своей телесной сущности. Но в искуплении звучит и тема спасения . Не будучи биологически специфицированным к природе существом (человек, в отличие от животных, не может выжить без опоры на разум и культуру), Homo Sapiens принуждён природой к ограничению и воздержанию (люди не имеют всего набора необходимых биологических средств (инстинктов) для автономного существования). Биологическая неспецифицированность человека, т.е. отсутствие предназначенной для него экологической ниши в природе (к примеру, рыбы живут в воде, птицы – летают в воздухе, пингвины живут в Антарктиде, белые медведи в Арктике и пр., тогда как человек освоил пустыню, море и воздух, он как бы везде, а, следовательно, нигде) предопределило то, что эту нишу ему необходимо обустроить самому, но уже с опорой не столько на инстинкты, сколько на разум и культуру. То есть человек принуждается в силу своей надбиологической сущности к целенаправленному
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS труду и через него ищет спасение, т.е. примирение с природой («Не Боги горшки обжигают»). Показательна этимология слова «труд» имеющего первоначальное значение «страдать», «быть в затруднении» или буквально «быть поеденным молью». Труд предполагает сообщество индивидуумов, способных объединяться для поддержания своей жизнедеятельности, но одновременно и жертвовать значительной частью своих индивидуальных, в том числе, биологических побуждений. Следовательно, принуждение к общественному труду предполагает ограничение индивидуальной свободы и обрекает человека на воздержание и жертвоприношение своих личных устремлений во благо общественных задач. Эта ситуация прописывается З.Фрейдом в его концепции генезиса культуры в виде двух онтологических императивов – принуждение к труду и силе любви, объединяющих людей для преодоления своей биологической недостаточности (незавершенности) [Фрейд 1992].
Искупление через воздержание, точнее удержания себя в культурных потрясениях и трансформациях меняющейся жизни. Поскольку расслабившись в безудержных телесных прихотях и дав «свободу» инстинктам, человек ввергает себя в пучину хаоса своей биологической неупорядоченности (отчуждённости). Через искупление, т.е. посредством труда и культуротворчества («трудиться в поте лица своего») человек обретает шанс на спасение и ре-интеграцию себя в природу. В преодолении тягот, нужды и страданий человек в культуре и посредством ей обретает то, чего ему онтологически недоставало – порядок, согласие, миролюбие. Действительно, где было бы культуротворчество без страдания человека? Разумеется, сами по себе страдания и нужда не ведут к порядку и гармонии. Более того, не подготовленный к страданию человек – бывает социально опасен, им часто овладевает агрессия, насилие и нетерпимость. К страданию человек должен
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS быть интеллектуально, т.е. культурно, подготовлен. Также как он должен быть духовно подготовлен к достатку и роскоши. Интеллектуальная ограниченность, как правило, обуславливает социальную распущенность, вседозволенность и безответственность как в ситуации страдания и лишения, так и в ситуации достатка и роскоши. Как правило, чем выше уровень освоенной человеком культуры, чем выразительнее и сильнее его способность к состраданию и социальной отзывчивости. На взаимосвязь высокой духовности и сострадания обращали внимание в своих публицистических и культурфилософских сочинениях Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, М. Ганди, А. Гелен, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачёв. Культура структурирует отношения между людьми и благодаря этому структурированию делает возможным чувствовать взаимосвязь части и целого. Социальная отчуждённость и отсутствие личностной культуры, обычно, порождает бесчувственность и апатию, ибо нарушена связь индивидуума с обществом (часть отделена от целого). Страдания, так или иначе, прокладывают путь к культуротворчеству дабы с его помощью человек преодолел страдания. Отсюда следует, что мифологема искупление равна идеям культуротворчества, благообразия и миропорядка. Радость приобретения чего-то важного для человека изначально обуславливается тем, чего он лишён, и что ему необходимо найти. Если ты нашёл то, что у тебя уже есть в достатке, ты не будешь этому сильно радоваться. Радость обретение почти всегда обусловлена горечью утраты и потери. И связь здесь онтологическая. Человек предопределён к страданиям и лишениям лишь для того чтобы обрести возможность стать счастливым. Неудовлетворённость движет культурой и развивает вкус жизни. Животные не предопределены своей биологической организаций к страданиям, но они также лишены, присущих только человеку, ощущений радости, представлений о красоте, любви и миропорядке. Поскольку, в отличие от человека, всё их
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS существо пребывает в гармонии с природой, а не в противостоянии с ней. Человек же - это, прежде всего, страждущее и принуждённое к труду существо. Фольклорная традиция ярко фиксирует эту особенность человека в словесном творчестве: «Без труда и рыбку не вытащишь из пруда», «Хочешь жить – умей вертеться», «Старание и труд всё перетрут» и многие другие пословицы, крылатые фразы и поговорки, соединяющие труд с двумя социальными установками – труд как необходимость, нужда, наказание и страдание, и труд как спасение, радость, достаток, миропорядок и благополучие. Трудом вознаграждают («Ударник социалистического труда», «Ветеран труда» и пр.), но и наказывают («трудовые повинности», «искупить трудом своим» и пр.). Эта амбивалентность понятия «труд» ярко просматривается в марксистских трактовках роли и места труда в общественной жизни людей. С одной стороны, «труд создал человека» и «труд облагораживает». Овладение трудом рассматривается как маркер перехода от животной жизни к человеческой. С другой стороны, именно Марксу принадлежит тезис о том, что «труд необходимо уничтожить». Однако вопреки этому марксистскому положению именно в советскую эпоху произошла сакрализация труда и мифологемы «Слава труду!», «Советский народ – великий труженик», «Трудовой подвиг» и пр. стали по существу государственными лозунгами. Разумеется, в тезисе «труд необходимо уничтожить» речь не идёт о том, что труд не нужен. Понятно, что трудовая деятельность лежит в основе человеческой культуры. Но эта лишь основа или первичная форма освоения действительности, обусловленная борьбой за выживание, нуждой, и в силу этого объективно имеющая принудительный характер. Труд является лишь одним из способов адаптации человека к природе. Но именно труд создаёт необходимые предпосылки для перехода к другому, более совершенному виду деятельности, а именно к творчеству. В
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS отличие от труда, выражающего нужду, нехватку чего-то, внешнее давление на человека и принуждение, творчество проистекает больше из внутренних побуждений и этимологически связывается со значениями «творить», «оформлять», «обустраивать», «охватывать», «огораживать» и даже «иметь». Труд проистекает из недостаточности («то, чего у меня не хватает, я беру извне»), тогда как творчество – это, прежде всего, то чем ты располагаешь, для того чтобы изменить мир, т.е. овладеть им. Но где было бы творчество без труда и принуждения? В этом ряду и творчество не есть завершающий момент самореализации человека. Вершиной творчества является искусство, именно в нём обретают свою идеальную завершенность и самораскрытие все развитые человеком родовые и индивидуальные способности, примиряющие его с природой и в известной мере искупающие «грех непослушания».
Если благодаря труду человек начинает чувствовать, то благодаря творчеству – сочувствовать и благодаря искусству – любить. Если труд развил мышление человека, а в творчестве мышление обрело качество сознания или самосознания, то в искусстве – сознание стало знанием или доступной для человека истиной. Труд как коллективная обязанность определяется властью общественного мнения или морали, тогда как творчество побуждается, прежде всего, совестью, которая в искусстве воплощается в истинный гуманизм и миропорядок.
Таким образом, мифологемы грехопадение, изгнание и искупление могут быть поняты как своего рода до-определение человека , до-очеловечивание , преодоление им своей отчуждённости от природы посредством культуры. Глагол «искупить», этимологически отождествляется со значениями «купить», «выкупить, «откупиться», что позволяет постулировать следующее: посредством труда, творчества, искусства, т.е. культуры, человек «выкупает» у природы своё «право на жизнь» и на своё «законное место под солнцем». Быть
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS может, действительно, современный кризис, как признал в своём пастырском выступлении в Калининграде (22.03.2010) патриарх Кирилл: «не только проклятие, но и благословение»?
Список литературы Антропология кризиса и метафоры перехода
- Бирлайн Дж.Ф. Параллельная мифология. -М.: Крон-пресс, 1997. -334 с.
- Гефтер М.Я. Там, где сознанию узко и больно.. -М.: КДУ, 2004. -160 с.
- Лосев А.Ф. Жизнь//Юность. -1990. -№ 5. -С. 78-93.
- Мамардашвили М. Философия -это сознание вслух//Юность. -1988. -№ 12. -С. 9 -13.
- Марсель Г. Опыт конкретной философии. -М.: Республика, 2004. -224 с.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. -М.: Наука, 1989. -576 с.
- Фрейд З. Недовольство культурой/З. Фрейд. Психоанализ. Религия. Культура. -М.: Ренессанс, 1992. -С. 65-134.