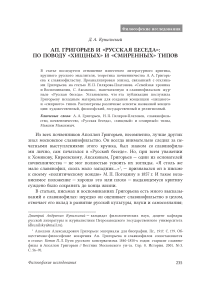А.П. Григорьев и «Русская беседа»: по поводу «хищных» и «смиренных» типов
Автор: Кунильский Дмитрий Андреевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские исследования
Статья в выпуске: 3 (68), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется отношение известного литературного критика, крупного русского мыслителя, теоретика почвенничества А. А. Григорьева к славянофильству. Проанализирован эпизод, связанный с отклика- ми Григорьева на статью Н. П. Гилярова-Платонова «Семейная хроника и Воспоминания, С. Аксакова», напечатанную в славянофильском жур- нале «Русская беседа». Установлено, что эта публикация послужила Григорьеву исходным материалом для создания концепции «хищного» и «смирного» типов. Рассмотрены различные аспекты названной концеп- ции: художественный, философский, государственный и религиозный
А. а. григорьев, н. п. гиляров-платонов, славянофильство, почвенничество, "русская беседа", "хищный" и "смирный" типы, максим максимыч
Короткий адрес: https://sciup.org/140190184
IDR: 140190184
Текст научной статьи А.П. Григорьев и «Русская беседа»: по поводу «хищных» и «смиренных» типов
Из всех почвенников Аполлон Григорьев, несомненно, лучше других знал московское славянофильство. Он всегда внимательно следил за печатными выступлениями этого кружка, был знаком со славянофилами лично, сам печатался в «Русской беседе». Но, при всем уважении к Хомякову, Киреевскому, Аксаковым, Григорьев — один из основателей почвенничества — не мог полностью усвоить их взгляды. «Я столь же мало славянофил, сколь мало западник…» 1 , — признавался он в письме к своему «политическому вождю» М. П. Погодину в 1857 г. И такое независимое положение — хорошо это или плохо — выдающемуся критику суждено было сохранять до конца жизни.
В статьях, письмах и воспоминаниях Григорьева есть много высказываний о славянофилах: нередко он оценивает славянофильство в целом, отмечает его вклад в развитие русской культуры, науки и самосознания;
поименно называет главных деятелей славянофилов, обсуждает их периодические издания и отдельные публикации 2 . О славянофилах, по свидетельству Н. Н. Страхова, «Ап. Григорьев всегда говорил… и устно, и печатно с величайшим уважением» 3 , и это в большинстве случаев так — даже самые хлесткие суждения 4 , например в письмах Погодину или тому же Страхову, далеки от нецензурной «лексики», которую Григорьев использовал, говоря о некоторых петербургских литераторах. И все же это совсем не значит, что отношения Григорьева и славянофилов были лишены конфликтности и острых углов. Уже само желание критика организовать новый кружок, реализованное сначала в «Москвитянине», а потом во «Времени», свидетельствует само за себя. Претензии Григорьева к славянофильству, в общем-то, хорошо известны, многие произведения, в которых он подмечает слабые стороны московских «теоретиков», неоднократно переиздавались — но вместе с тем для сопоставления почвенников и славянофилов чрезвычайно важен следующий эпизод, который нуждается в более внимательном осмыслении.
Еще сотрудничая в журнале «Русское слово», Григорьев в 1859 г. публикует там свою известную статью «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» 5 . В этой статье, где прозвучали слова «Пушкин — наше все», Григорьев по своему обыкновению не раз упоминает славянофилов и их литературные труды. В целом, высказывания его носят положительный характер: «автор первого философского обозрения нашей словесности», «уединенный, строго логический мысли-тель» 6 И. В. Киреевский; «произведение, действительно достойное уважения» — «Семейная хроника» (с. 56); отмечаются исторические драмы Хомякова, даже «несмотря на их странный в приложении к нашему быту шиллеровский лиризм» (93), но одна отсылка выделяется на общем фоне. «Недавно — года два тому назад, — пишет Григорьев, — один критик, разбирая „Семейную хронику“ Аксакова и повергая к ее подножию всю русскую литературу, упрекал Лермонтова в малом уважении его к личности Максима Максимыча» (71). Статья этого критика так запомнилась Григорьеву, что во второй части обозрения он снова вспоминает ее: «Голоса, вопиявшие на Лермонтова за то, что он мало уважает своего Максима Максимыча, нашли мало сочувствия» (106).
Обратившая на себя внимание Григорьева статья называлась «Семейная хроника и Воспоминания, С. Аксакова», ее автором был близкий к славянофилам литератор и цензор Н. П. Гиляров-Платонов 7 . Григорьев, конечно, знал, с кем имеет дело, но, очевидно, не хотел нарушать профессиональную этику: статья была подписана не полным именем, а сокращенно — « Н. Г-въ » 8 , что заставляло называть автора «один критик»
или использовать еще более общую формулировку «голоса». О Гилярове-Платонове Григорьев мог судить не только по его публикациям, скорее всего, литераторы были знакомы: примерно одного возраста (Григорьев родился в 1822-м, а Гиляров — в 1824 г.) оба они в 1856 г. участвуют в «Русской беседе», где помещают объемные статьи. В своих письмах Григорьев говорит о Гилярове как о знакомом ему человеке. Так, в одном из писем к Погодину 1857 г. Григорьев относит Гилярова к «хорошим людям» (наряду с Н. И. Крыловым, П. А. Бессоновым, И. В. Беляевым, И. Д. Беляевым), но не советует давать им много власти в «Москвитянине», в случае если журнал удастся возобновить — каждый из них «да будет только гостем , почетным, с отверстыми объятиями принимаемым гостем» (384). И ниже поясняется почему: «Н. П. Гиляров: огромная ученость по его части, ум смелый, прямой и честный, но воспитанный в семинарских словопрениях, ради ergo 9 готовый на всякий парадокс — и главное, с отсутствием всякого носа, т. е. всякого чувства изящ-ного» 10 (385). К моменту, когда Гилярову дана была столь примечательная характеристика, его статья о «Семейной хронике» уже была напечатана.
Что именно в этой работе вызвало несогласие Ап. Григорьева? Статья Гилярова появилась в первой книге «Русской беседы» и «походила на боевой программный манифест целого направления» 11 . Поскольку эта статья в последнее время уже привлекала внимание исследователей 12 , ограничимся здесь ее кратким изложением, останавливаясь на местах, особо отмеченных Григорьевым.
В своей статье Гиляров-Платонов дает характеристику творчества ведущих русских писателей, указывая на фактическое отсутствие в их произведениях положительных художественных типов. Отечественной литературе, по мысли Гилярова, с самого начала XVIII века, когда подражание Западу затронуло и словесность, и вплоть до 1850-х годов было свойственно отрицательное направление, выразившееся в сатире и отвлеченном, безучастном изображении русской жизни. Например, Пушкин, хотя и назван «первым народным поэтом», «эпохою в нашей литературе», оценивается все-таки очень строго — чего стоит хотя бы упоминание «игривой и беззаботной» пушкинской поэзии, далекой от каких-либо духовных интересов и переживаний13. Пушкин и еще более Лермонтов выражали в своих произведениях полное «безучастие к жизни», ко всему хорошему и дурному, что в ней есть. Как и славянофилы, Гиляров особо выделяет Гоголя, который «глубже, чем кто-либо чувствовал необходимость положительно-прекрасных образов», но даже такому проницательному художнику было не по силам в одиночку «раздвинуть тесный кругозор нашего искусства, видевшего и бравшего жизнь только в точке соприкосновения ее с иноземным бытом»14.
Особенно выразительна классификация литературных персонажей, изображенных «с сочувствием», но в большинстве своем также не претендующих на звание положительного идеала. Ленский — «существо жалко-мечтательное и бесхарактерное», Татьяна — «с глубокой, самой по себе природой, но все-таки — пустая», Акакий Акакиевич — «жертва, выставленная только для большей силы отрицания», и т.д. Упомянутый Ап. Григорьевым Максим Максимыч действительно именуется «лицом положительно высоким», но Печорин, а вслед за ним и автор не выказывают должного уважения к этому персонажу, из-за чего и его образ не обладает необходимой цельностью. С большими уступками и оговорками следы положительного изображения жизни Гиляров-Платонов находит в «Старосветских помещиках», «Капитанской дочке», «Портрете», «Невском проспекте» и «Мертвых душах», в Чацком: хотя тот и «бесплодный фразер», но все-таки «честный человек»15. Но по-настоящему положительные произведения, отмечает Гиляров, появились только в последнее время — это книги С. Т. Аксакова с их сочувственным отношением к людям и природе. «В г. Аксакове, — пишет Гиляров, — …виднее нежели в других это… отрешение искусства от прежней отрицательности, отвлеченности, условности воззрения. Оно в нем гораздо выдержаннее и доходит даже до полного беспристрастия к действительности, но беспристрастия сочувствующего, желающего в каждом явлении оты- скать светлую сторону, которою бы смягчилось впечатление, производимое его темною стороною»16.
Итак, Григорьев в своих емких высказываниях остановился на двух узловых моментах в статье Гилярова: выдвижение на первый план русской литературы «Семейной хроники» и явная симпатия к особому художественному типу, выразившемуся в лермонтовском Максиме Максимыче. Причем из перечисленного ряда этот герой выхвачен Григорьевым достаточно произвольно, поскольку сам Гиляров подробно не обсуждает образ храброго воина. Больше его интересует один из героев «Семейной хроники», молодой Алексей Степанович Багров, отнесенный критиком к такому разряду: «Это — люди, способные на величайшие дела, на подвиги, страшно изумляющие вас, но в то же время беспритязательные, в какой-то невинно-детской простоте не хотящие понять высоты своих подвигов и не удивляющиеся им в других, — люди, в высшей степени мягкие и незлобивые, но в то же время поражающие вас решимостью и непреклонностью удивительною; люди, глубоко, беспредельно-глубоко чувствующие, но выражающие свое чувство без пылких порывов, даже будто с какою-то вялостью… Но берегитесь почитать это за вялость!..» 17 . Но, пожалуй, самое главное в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» следует сразу за полемической отсылкой к работе Гилярова, там разворачивается центральное для литературной критики Григорьева противопоставление «хищных» и «смирных» типов. Процитируем еще раз уже приводившиеся слова Григорьева и представим в самых общих чертах его известную концепцию.
«Недавно — года два тому назад — один критик, разбирая „Семейную хронику“ Аксакова и повергая к ее подножию всю русскую литературу, упрекал Лермонтова в малом уважении его к личности Максима Максимыча. Но мы были бы народ весьма не щедро наделенный природою, если бы героями нашими были Иван Петрович Белкин и Максим Максимыч. Тот и другой вовсе не герои, а только контрасты типов, которых величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным» (71). По Григорьеву, Белкин, как и Максим Максимыч, — «начало только отрицательное», он положителен отсутствием в себе отрицательных начал (протеста, мстительности, гордыни), это — «простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное». Но ни Пушкин, который «умалил себя, когда-то Гирея, Пленника, Алеко, до образа Ивана Петро- вича Белкина ‹…› умалил себя, а не поставил в надлежащие границы», ни последующая русская литература не могли ограничиться изображением этого «отрицательного» начала, «ибо представьте его самому себе — оно перейдет в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова» (70–71). Таким образом, то, что Гиляров-Платонов считает «положительным» типом «чисто Русского и по преимуществу Русского характера», нашедшим неполное отражение в лермонтовском Максиме Максимыче, Григорьев, при всей симпатии к таким героям, склонен рассматривать как начало «отрицательное» (отрицание отрицания), на котором художник не может и не должен замыкаться. Противопоставление двух образов — «хищного» и «смирного», — повторяясь подчас дословно, будет играть очень важную роль и в дальнейшем критическом творчестве Григорьева, станет для него меркой оценивания всех наиболее крупных русских писателей18.
В рамках нашей темы особенно важно, что Ап. Григорьев вспоминает не только статью Гилярова, но, по сути, полемизирует с главным направлением «Русской беседы» и, в конечном счете, — с литературно-критическими и эстетическими взглядами всего славянофильства. Поэтому уместно здесь будет сказать о непродолжительном сотрудничестве самого Григорьева в журнале славянофилов. С самого начала Григорьев с недоверием отнесся к «Русской беседе», «которая … едва ли не будет журналом Троицкой Лавры…» и «сойдется с блаженной памяти „Маяком“» (январское письмо к Погодину 1856 г.; 379). Очевидно, что, пересекаясь со славянофилами в домах московских литераторов, Григорьев уже составил представление о характере нового издания, знал подбор сотрудников, в числе которых оказался и Гиляров-Платонов, в недавнем прошлом — преподаватель Московской духовной академии. Сравнение с журналом «Маяк», в свою очередь, подразумевало чересчур требовательное отношение славянофилов к русской литературе, их недооценку творчества Пушкина, Лермонтова и многих молодых писателей. Тем не менее, получив приглашение участвовать в «Русской беседе» от ее редактора А. И. Кошелева, Григорьев «с величайшей радостью» откликается на этот «весьма лестный» для него призыв. Но предварительно он все же предупредил Кошелева о различии своих «москвитянинских» убеждений от взглядов славянофильства: «Главным образом мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука. Когда я говорю, что главным образом мы в этом расходимся, то говорю не совсем точно, — надо бы сказать: единственно в этом…»19. Следствием такого инакомыслия, как писал Григорьев, было «большее», в отличие от славянофилов, «поклонение Пушкину и меньшее… поклонение Гоголю», а также различная оценка «некоторых литературных явлений настоящей минуты»20. Искажения в славянофильском подходе к литературе Григорьев, видимо, намеревался исправить сам, требуя предоставить ему руководство отделом критики.
Но у славянофилов были свои мысли на этот счет — и свои критики.
В 1857 г. на страницах журнала было напечатано «Обозрение современной литературы» К. С. Аксакова — большая статья, в которой проявился неизменный скептицизм славянофилов по отношению к русской литературе, так не нравившийся Григорьеву21. К. Аксаков по достоинству оценил творчество писателей-славянофилов, отделив их от остальных авторов, отмечал и произведения Тютчева, Некрасова, Полонского, Тургенева, Островского, Л. Толстого, но пришел к весьма неоднозначному выводу: «В настоящее время перед нами толпа писателей, покинутых духом прежней эпохи, свидетельствующих собою о прекращении целого направления. У нас несколько авторов с замечательным талантом, которые, хотя ничего не изменяют в общем состоянии нашей литературы, не дают иного направления ее ходу, но в них светится какая-то, чуть видная, заря литературного будущего дня; она исчезнет, как скоро появится солнце»22. Из других литературно-критических выступлений «Русской беседы» следует отметить группу статей, отстаивающих положительное воззрение на жизнь: кроме вышеназванной статьи Гилярова, явно связаны между собой были работы «Детские годы Багрова внука, служащие продолжением Семейной хроники, С. Аксакова» (1858 г.) С. П. Шевырева и «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе» (1859 г.) А. М. Иванцова-Платонова23.
Все три перечисленные статьи убеждали писателей отказаться от «голого отрицания», обращать внимание на светлые стороны национального быта, а Гиляров и Шевырев в качестве образца называли произведения С. Т. Аксакова 24 . Однако сам Ап. Григорьев все-таки тоже успел опубликоваться в «Русской беседе», и очень важно, что его статья «О правде и искренности в искусстве» (1856 г.) в какой-то мере гармонирует с общим фоном. Она была напечатана спустя непродолжительное время после многостраничной рецензии Гилярова и предваряла другие критические выступления журнала. Сопоставление узловых идей «Русской беседы» с основными положениями статьи «О правде и искренности в искусстве» ярче оттеняет позиции сторон, тем более что Григорьев, признавая недостатки, все же дорожил этой своей работой 25 .
Нарушая хронологический принцип, обратимся сначала к другой публикации — более «славянофильской» по духу статье Шевырева26. Даже объектом своего разбора эта статья перекликалась с рецензией Гилярова, совпадая с ней и в ценностных установках. Подобно Гиля- рову Шевырев также прослеживает путь русской литературы с XVIII века и упоминает о существовании в ней двух направлений, по-разному смотревших на русскую жизнь — «с восторгом, доходившим до исступления», и, напротив, «со смехом едкой сатиры»27. Поворотным пунктом в развитии отечественного искусства Шевыреву представлялся Гоголь, «который силою и решительною рукой разбил в дребезги нарумяненный идеал Русской жизни о самые пошлые явления самой низкой ее действительности»28. Связанные с натуральной школой писатели, далее говорится в статье, довели изображение непривлекательных сторон быта до крайности, действительность нередко ими «принималась за синоним с пошлостью». До появления «Семейной хроники» и других произведений С. Т. Аксакова даже лучшим из молодых писателей не удавалось «глядеть» жизни «прямо в глаза», а — не сверху вниз или только концентрироваться на отрицательных явлениях. Верное понимание Аксаковым жизни, отмечает Шевырев, заключается в «ненарушимом спокойствии, с каким он смотрит на эту жизнь, обнимая в совокупном воззрении обе ее стороны, и светлую и темную»29. Такая объективность самого критика, видевшего необходимость равно отражать противоположные стороны жизни, должна была импонировать Ап. Григорьеву, а то, как Шевырев рассматривал героев «Детских годов…», не могло пройти незамеченным.
О главном герое, мальчике Сереже, Шевырев писал: «Багров натура живая, но тихая, глубокая, внутренняя, зародыш силы скорее зиждущей и охранительной, нежели разрушительной и ломающей» 30 . Похоже критик оценивал и «прекрасный, сочувственный образ» Cережиной сестрицы.
Как уже говорилось, в первый год издания «Русской беседы» там была напечатана статья Ап. Григорьева «О правде и искренности в искусстве» (1856. Кн. III. Науки. С. 1–77), задуманная как письмо к А. С. Хомякову. Впоследствии Григорьев неоднократно ссылался на эту работу и так определял одну из центральных ее идей: «Что касается до искусства, то оно всегда остается тем же, чем предназначено быть на земле, то есть идеальным отражением жизни, положительным, когда в жизни нет разъединения, отрицательным, когда оно есть» (18). Эта богатая мыслями статья интересна среди прочего тем, что была написана в тот период жизни Григорьева, когда он еще питал некоторые надежды на совместную со славянофилами журнальную и общественную деятель-ность31, а потому в известной степени подстраивался под их убеждения, если так вообще можно сказать о прямом характере бывшего участника «молодой редакции». Но здесь же видны и основные расхождения со взглядами славянофилов. Бросаются в глаза частые повторы слова «корни» — излюбленного термина и Григорьева, и славянофилов, восходящего к немецкой философии и, в частности, к трудам Шеллинга32. Например, в статье Григорьева говорится, что «в поэму Данта вросли, так сказать, корнями его католические, гибеллинские и философские созерцания…»33; или другое совершенно славянофильское высказывание: «…Жизнь наша крепко связана с корнями, — как ни старались разрубить эту связь различные иноземные влияния…»34. Здесь, конечно, Григорьев обыгрывает и предложенный К. Аксаковым эпиграф «Русской беседы»: «Помяните одно: только коренью основание крепко, то и древо неподвижно; только коренья не будет, к чему прилепиться?». Однако с помощью привычной для славянофильства терминологии Григорьев описывает и поворот в мировоззрении Пушкина — художника, который далеко не полностью соответствовал эстетическим и нравственным требованиям славянофилов. По мнению Григорьева, «Пушкин… чем более жил, тем крепче срастался с почвою своей земли»35, а его «истинно художническая и, следовательно, в высшей степени правдивая и зрячая натура, все более и более свергая с себя кору чуждых наростов, отряхая прах наносных влияний, стала возвышаться наконец до коренных народных созерцаний, даже до созерцаний религиозных…»36. Не говоря еще о борьбе «хищного» и «смирного» типов, критик, по сути, в том же русле объясняет творческий путь Пушкина, как преодоление инозем- ных, западных влияний, переход «от идеалов призрачных и наносных к идеалам коренным и действительным, к коренным созерцаниям, к коренным нравственным идеалам, становясь уже прямо на сторону сих последних в своих последних, наиболее зрелых произведениях»37.
Размышления Григорьева соответствуют славянофильским взглядам лишь отчасти, совпадая на уровне лексики и топики («почва», «корни», «кора»), но расходясь в главном — в оценке Пушкина. Характерно, что Шевырев, выделявший те же самые «смирные» типы (без использования такой формулировки), умалчивает о пушкинских героях.
С особой теплотой и чувством Шевырев пишет о воспитателе мальчика Сережи, крестьянине Евсеиче: «Вот дядька, которого лучше не выдумает никакая педагогия и которого могла создать только полная Русская жизнь, взятая лучшею ее стороною, а определить к сыну — разумная любовь матери. За Евсеича спасибо нашему славному художнику: его создание мы, не обинуясь, можем поставить наравне с богоравным Эвмеем в Одиссее Гомеровой» 38 . Для Григорьева же предельно ясно, что «„Семейная хроника“ как будто исполняет во многих отношениях программу, оставленную великим поэтом» 39 , т. е. Пушкиным, а в череде «смиренных» героев русской литературы необходимо назвать Савельича из «Капитанской дочки» («до смиренного служения Савелья» (66)).
Старания Ап. Григорьева помирить славянофилов с Пушкиным оказались не совсем бесплодными. Если старшие представители славянофильского кружка остались при своем, то один из новых для журнала авторов, видимо, внимательно прочитал статью «О правде и искренности в искусстве». Речь идет о А. М. Иванцове-Платонове, тогда еще студенте Московской духовной академии, впоследствии известном богослове и историке Церкви. Его семестровым сочинением заинтересовался И. С. Аксаков, бывший в то время негласным редактором «Русской беседы», так в журнале появилась упоминавшаяся статья «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе». Молодой автор размышлял о длительном господстве отрицательного направления литературы, связывая успех и реалистичность сатиры с петровскими реформами, заставившими русских людей не уважать собственный уклад жизни, говорил о необходимости взглянуть на окружа- ющую действительность с другой стороны, что было бы справедливее и ближе к христианским ценностям, с удовлетворением отмечал «значительные признаки близости положительного искусства»40, проявлявшиеся, очевидно, в произведениях С. Т. Аксакова и Кохановской. Такой взгляд на историю и современность литературы повторял привычные мысли К. Аксакова, был представлен в «Русской беседе» в знакомых нам трудах Гилярова и Шевырева. Но в ряде случаев прослеживаются явные совпадения Иванцова-Платонова именно с Григорьевым, свидетельствующие о развитии идей последнего в славянофильском издании.
В статье Григорьева так же в разных вариациях проводилась мысль о возможности двоякого изображения жизни в произведениях искусства: «Художник увековечивает только жизненно законные типы, ибо на нем лежит обязанность правды и правдивого отношения к явлениям, правдивого положительного или правдивого отрицательного» 41 . Не сомневаясь в том, что и положительное, и отрицательное начала должны находить отражение в искусстве, критик все-таки с большим сочувствием говорит о положительных сторонах жизни и народного быта. Подтверждение своим мыслям Григорьев видит в «светлой и ясной» пушкинской натуре, «многознаменателен» для него «лирический порыв в третьей главе „Онегина“, когда… поэт наш простодушно, хотя еще несколько робко, еще, пожалуй, пополам с иронией высказывает свои заветнейшие мечты» («Тогда роман на старый лад, Займет веселый мой закат…») 42 . Эти же строки дали Иванцову-Платонову повод утверждать, что «Пушкин в одной из последних глав Онегина выражал желание завершить свою поэтическую деятельность светлым и мирным изображением народной, преимущественно сельской, жизни» 43 . Но, по мнению Иванцова-Платонова, «желание Пушкина осталось только желанием» 44 , а Григорьев «все исчисленное поэтом» видит воплощенным «в пору его зрелости в „Капитанской дочке“, в „Дубровском“, в некоторых стихотворениях» 45 .
И еще одна важная перекличка. В предложенной Иванцовым-Платоновым характеристике «степеней примирения с жизнью» для поэта можно увидеть конкретизацию оброненного в статье Григорьева замечания о «различии идеалов у художников, имеющих прочные идеальные основы, например у Диккенса, Теккерея, Гоголя»46. Согласно Иванцову-Платонову, Диккенс и Теккерей примиряются с жизнью «путем опыта и практического разума, убедившись, что от жизни нельзя требовать осуществления задушевных идеалов, а нужно пользоваться тем, что она дает»47. Таким образом, свой вклад в создание славянофильской концепции положительного направления48 внес и Ап. Григорьев, наметивший ряд перспективных тем для дальнейшего более подробного обсуждения.
При всем созвучии мыслей Григорьева направлению «Русской бе-седы»49 видно, что в его душе после недавно минувшего «москвитя-нинского» периода, отмеченного попытками примириться с действительностью как идейно, так и в личной жизни50, назревал очередной поворот. Осуждение «неправды» и «безнравственности» байронизма в статье «О правде и искренности в искусстве» чередуется с прорывающимся восхищением перед «пламенным поэтическим протестом», нашедшим выражение и в личности Байрона; признание, что в творчестве «властителя дум» есть «клевета… на душу человеческую», сопровождается оговоркой, что клевета эта отчасти законная, «проистекающая… из правдивого негодования на ложь и лицемерие жизни»51. Кроме лежащих на поверхности, деловых разногласий с редакцией в этом подавляемом до времени бунтарстве Григорьева можно увидеть еще одну существенную причину его неудавшегося сотрудничества в «Русской беседе». Очень чутко реагировавший на любые расхождения во взглядах критик, конечно, не в первый раз убедился в несхожести своих стремле- ний с идеалами славянофилов, чего было достаточно для поиска нового, более соответствующего его складу мыслей издания52.
Не стесненный необходимостью соблюдать редакционную линию славянофильского журнала, Григорьев мог теперь свободно высказываться и о «Семейной хронике», и о «положительной» литературе в целом, говорить о значении страстного, тревожного начала в жизни. Так, в «Русском слове» появляются уже не раз упоминавшийся «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» с двукратной отсылкой к рецензии Гилярова; цикл «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“», где развивалось противопоставление «смиренного» и «хищного» начал; наконец, в «Светоче» была напечатана статья «Искусство и нравственность»53, продолжавшая любимую Григорьевым тему, широко развернутую им в «Русской беседе». Примечательно то место статьи, где Григорьев вспоминает изменения, которые произошли в русской литературе в 1850-х гг., когда последовала реакция на отрицание семейных ценностей, проповедовавшееся в произведениях предыдущего десятилетия. «Литература, — пишет Григорьев о периоде 1850-х гг., — в лице новых, свежих деятелей принялась за спокойное, объективное изображение быта и действительности… Как всегда бывает при реакциях, обнаружилось даже сочувствие к тому, что отрицалось прежним направлением. Семейное начало стали даже поэтизировать…» (258). Но и такое «положительное» направление литературы как-то быстро наскучило Григорьеву54. Дальнейшее движение в сторону смиренных и простодушных идеалов пьес Островского «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется» приведет, считал критик, к «тине», «в которой все глохнет без развития или развивается нескладно и дико» (259). Если так были оценены почитаемые Григорьевым произведения Островского, что уж говорить о творчестве других писателей. «Семейная хроника» упоминалась следующим образом: «Ведь надобно было насильственно закрыть себе глаза, чтобы не видать, какую тину каверз, рабства, лжи, сплетен развел около себя величавый, по душе возвышен- ный, действительно, и сам по себе поэтический старик Степан Михайлович Багров» (259).
Размышления Григорьева об опасности застоя и необходимости протеста можно рассмотреть с нескольких сторон. Как критик, Григорьев, безусловно, имел серьезные основания для своих выводов: отрицание и «протест» придают художественному произведению силу и необходимую занимательность, без них, проще говоря, неинтересно читать. И здесь с Григорьевым вряд ли поспорили бы даже славянофилы, которые сами в определенных случаях, например применительно к XVIII в., считали сатиру более жизненной и нужной, чем произведения, условно, «положительной» направленности. «Сатиры, произведенные тем временем, доселе читаются с удовольствием… но мы засыпаем на чтении самых громких, самых знаменитых в то время од», — писал в известной нам статье Гиляров 55 . Более того, для славянофилов вопрос о возможности изображения положительных типов был вообще очень чувствительным и больным и остро ими переживался в пору ожидания второго тома «Мертвых душ» 56 . Подобное же можно сказать, если посмотреть на дело с философской точки зрения — согласно законам гегелевской диалектики, отрицание необходимо для развития как такового 57 . Те же славянофилы, не получив от любимого художника идеальных образов, стали подчеркивать пользу «разлагающего анализа» и « реального отрицания», внесенных Гоголем «в общественное сознание… на благо и спасение» и подготовивших почву для нарождавшегося в русской литературе синтеза 58 .
Вместе с тем есть и другие, не менее важные стороны этой проблемы — религиозная и государственная. Неумеренное отрицание и протест могут оказаться пагубными как для души, так и для политической стабильности. Григорьев делает акцент на обратном: с Белкиным много не сделаешь, в истории нужны Минины, способные проявить себя в решительную минуту. Об этом, в частности, говорилось во второй статье цикла «Граф Л. Толстой и его сочинения»59: «Максим Максимыч и капитан Толстого, конечно, люди очень честные и без всякой похвальбы храбрые; они нисколько не рисуются, нисколько не натягивают своей простой природы на сильные страсти и глубокие страдания, — но ведь согласитесь, что с ними немыслима никакая история. Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины. Увы! На одних добрых и смирных людях… далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна» (355–356). Определенный риск, связанный с тем, что «хищный» тип может явиться и в Разине, Григорьев предвидит, но подробно не обсуждает, возможно, просто не желая выходить за рамки литературной критики — вспомним, как негативно оценивал он критиков, смешивавших искусство и политику (неслучайно в работах Григорьева Добролюбов с долей иронии именовался именно «публицистом» «Современника»). Но термин «хищный» сам по себе подразумевает наличие жертвы, вне зависимости от того, как будет развиваться мысль писателя. Да и сам Григорьев отдавал себе отчет в том, какую опасность несет в себе воспеваемый им протест. Недаром в статье «Стихотворения Н. Некрасова»60 с ее ключевым тезисом «Где поэзия, там и протест» есть примечательные слова, напоминающие поэту об ответственности перед обществом: «Не кадил ли он часто личным раздражительным внушениям и даже интересам минуты? Всегда ли он вполне сознательно и объективно ставил себе свои мучительные вопросы? Если нет, то знал ли он, какой ответственности подвергается он перед судом потомства, он, неотразимо увлекавший своими песнями все молодое поколение?» (297).
Имя лермонтовского Максима Максимыча и оценка его в статье Гилярова служили Григорьеву испытанным «средством» для обращения к любимым темам. Отчасти это объясняется привычкой Григорьева переносить из статьи в статью целые фрагменты, в чем его нередко уличали. Но, конечно, главная причина заключается в важности для него обсуждаемых авторами «Русской беседы» вопросов. В статье с красноречивым названием «Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда» Григорьев вновь вспомнит высказывание Гилярова: «Голоса, вопиявшие на Лермонтова за то, что он мало уважает своего „Максима Максимыча“, нашли мало сочувствия»61. Другое дело, что критик, как уже говорилось, допускает некоторое искажение славянофильской позиции, подчеркивает в идеях Гилярова (приравнивая их взглядам старших славянофилов) то, что не являлось в них главным и показательным. Для Григорьева с его художественным, эстетическим осмыслением действительности образ Максима Максимыча стал олицетворением исторических и литературных взглядов славянофиль-ства62, хотя сами славянофилы вовсе не думали писать это имя на своем знамени63.
Сам Григорьев по-настоящему «положительным» считает тургеневского Лаврецкого, совершенно не замеченного славянофилами64: в нем «создался новый, живой тип, уже не отрицательный только, а положительный; загнанный, смиренный, простой человек, доселе только позво- лявший себе изредка критическое или комическое отношение к блестящему, хищному человеку… переходит в живой, положительный образ», он «приехал не умирать, а жить на свою родную почву» (186)65. И здесь кроется глубокое расхождение Григорьева со славянофилами: Лаврецкий, герой с идеями, образованием, принадлежащий к дворянству, был не лишен «страстного начала», которое славянофилами не очень-то поощрялось. Сущность «положительности» для Григорьева интересно выразил К. Н. Леонтьев, так вспоминавший свои первые впечатления от его «москвитянинских» статей: «Апол. Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; — его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности»66.
Но все же идеи славянофилов волновали Григорьева независимо от его физического состояния и жизненных обстоятельств, что подтверждает рассказ Страхова о последней встрече с учителем и другом: «Не забыть мне моего последнего свидания с ним, дней за десять до его смерти. Я приехал к нему в долговое отделение, еще не зная, что меня ждет, не придется ли отказаться от желания потолковать с ним. Первый взгляд на вошедшего Григорьева решил мой вопрос: его бледная орлиная фигура сияла светом мысли. Он начал говорить о том, что нам надобно начать борьбу с известными сторонами славянофильства. На эту тему, всегда горячо его занимавшую, и которой он не раз касается в своих письмах, его навела статья „Эпохи“: „Славянофилы победили“ 67. Он находил, что теперь, когда славянофилы находятся в таком выгодном положении, нужно тем усерднее защищать против них самобытную жизнь областей, те зачатки ее, которые еще способны развиться в будущем, которые подавлены Москвой и обнаружили сознание своей своеобразности против ее власти в „смутное время“… Разговор наш происходил утром, после одной из тех ночей, которые Григорьеву приходилось проводить без сна. „И вот, — говорил он, — шатаюсь я тут всю ночь по коридорам, пью чай и всю ночь я как будто разговариваю с тобой, с Беляевым, с Аксаковым… Спорю, опровергаю, сам делаю себе возражения, и все это с такой ясностью, с такой силой, что если бы записать все, что я передумал, то вышла бы превосходнейшая статья, какую я только способен написать“. Воодушевление Григорьева отличалось на этот раз какой-то особенной живостью и силой»68.
Немалое место среди привлекавших Григорьева славянофильских идей занимали литературные суждения «Русской беседы». Именно опубликованная там работа Н. П. Гилярова-Платонова «Семейная хроника и Воспоминания, С. Аксакова» и другие заявления славянофильских критиков способствовали оформлению в статьях Григорьева концепции двух исторических и художественных типов — «хищного» и «смирного». Эта концепция тесно соприкасается с предельно важными для Григорьева и славянофилов категориями утверждения и отрицания, а также с образными понятиями («почва», «корни»), активно использовавшимися в немецкой философии и, в частности, в трудах Шеллинга и Гегеля. В дальнейшем разделение литературных героев на два типа творчески воспримут ведущие представители почвенничества Достоевский и Страхов, которые будут оценивать разные явления жизни с точки зрения «хищного» и «смиренного» начал 69 .
Список литературы А.П. Григорьев и «Русская беседа»: по поводу «хищных» и «смиренных» типов
- А. И -Ц. О положительном и отрицательном от-ношении к жизни в русской литературе//Русская беседа. 1859. Кн. I. Критика.С. 1-46.
- Аксаков И. С. Письма к родным, 1849-1856. М.: Наука, 1994. 674 с.
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. 528 с.
- Аполлон Александрович Григорьев: материалы для биографии. Пг.: Изда-ние Пушкинского Дома при Академии Наук, 1917. 413 с.
- Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспомина-ния: в 2 т. СПб.: Наука, 2009.
- Гиляров-Платонов Н. П. По поводу Нашего Времени//День. 1862. 8 декабря.№ 49. С. 17.
- Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта//Время. 1861. № 4. Критическое обозрение.С. 163-181.
- 8. Стихотворения А. С. Хомякова. Москва 1861//Время. 1861.№ 5. Критическое обозрение. С. 46-58.
- Григорьев А. Наши литературные направления с 1848 года//Время. 1863.№ 2. Современное обозрение. С. 1-38.
- Григорьев А. А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. 512 с.
- Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л.: Наука, 1980. 440 с.
- Григорьев Аполлон. Литературная критика. М.: Худож. лит., 1967. 632 с.
- Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1980. 496 с.
- Гроссман Л. П. Три современника: Тютчев -Достоевский -Аполлон Григорьев. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1922. 117 с.
- Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Рольф, 2001. 416 с.
- Дмитриев А. П. Н. П. Гиляров-Платонов -автор и цензор «Русской беседы»//«Русская беседа»: история славянофильского журнала: исследования,материалы, постатейная роспись. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. 568 с.
- Егоров Б. Ф. Н. П. Гиляров-Платонов как эстетик и литературный критик//Никита Петрович Гиляров-Платонов: исследования, материалы, библиография,рецензии. СПб.: Росток, 2013. С. 36-46.
- Котов П. Л. Пути русского консерватизма 1840-1850-х годов: старшие сла-вянофилы и Аполлон Григорьев//Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История.2001. № 3. С. 56-70.
- Курилов А. С., Мещеряков В. П. Литературные позиции «Русской беседы»//Литературные взгляды и творчество славянофилов. М.: Наука, 1978. С. 238-289.
- Лазари Анджей де. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М., 2004.207 с.
- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. СПб., 2003. Т. 6(1). 824 с.
- Лобов Л. Памяти Аполлона Григорьева. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1905. 14 с.
- Н. Г-вь Семейная хроника и Воспоминания,С. Аксакова//Русская беседа. 1856. Кн. I. Критика. С. 1-69.
- Никита Петрович Гиляров-Платонов: исследования, материалы, библио-графия, рецензии. СПб.: Росток, 2013. 944 с.
- Никольский Б. В. Памяти Н. Н. Страхова//Русский вестник.1896. Март.Т. 3. С. 231-255.
- Носов С. Н. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М.: Сов. писатель,1990. 192 с.
- Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской) (1858-1859)//Рус-ское обозрение. 1897. Февраль. Т. 43. С. 569-616.
- Письмо С. Т. Аксакова И. С. Аксакову от 3 апреля 1847 г.//Литературноенаследство. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 58. С. 702.
- Страхов Н. Н. Воспоминания об А. А. Григорьеве//Эпоха. 1864. № 9. С. 1-50.
- Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском//Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. Т. I: Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 179-329 (первая пагинация).
- Ходанович М. А. Влияние философии Шеллинга на мировоззрение поч-венников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова//Философия Шеллинга в России XIX века. СПб.: РХГИ, 1998. С. 449-476.
- Шевырев С. Детские годы Багрова внука, служащие продолжением Семей-ной хроники, С. Аксакова//Русская беседа. 1858. Кн. II. Критика. С. 63-92.