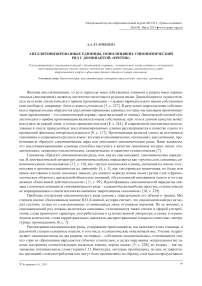Апеллятивизированные единицы, пополнившие синонимический ряд с доминантой «критик»
Автор: Кудрявцева Анна Аркадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются синонимический ряд с доминантой «критик», значительную часть которого составляют апеллятивизированные онимы, также системные связи между членами синонимического ряда; затрагивается вопрос о фиксации данных единиц в словаре синонимов.
Прономинация, апеллятивизация, интертекстуальность, синоним, синонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/14822303
IDR: 14822303
Текст научной статьи Апеллятивизированные единицы, пополнившие синонимический ряд с доминантой «критик»
Синонимы образуют синонимические ряды, или, как их еще называют, синонимические парадигмы. В лингвистической литературе синонимический ряд определяется как «группа слов, связанных синонимическими отношениями» [12, с. 10], как «группа лексических единиц, связанная на основе соответствия и противопоставленности их значений» [4, с. 5], как «исторически изменчивая, но более или менее постоянная в своих основных звеньях для данного периода жизни языка группа слов и фразеологических оборотов с предельной общностью значений, обусловленной называнием одного и того же явления объективной действительности» [11, с. 99]. Идентификация синонимической парадигмы связана с понятием доминанты синонимического ряда – «семантически наиболее простым, стилистически не маркированным и синтагматически наименее закрепленным синонимом» [10, с. 229].
Проблема построения синонимического ряда связана с определением его объема и границ. Мы считаем вполне обоснованным мнение В.Н. Клюевой, которая считает, что синонимический ряд не может состоять только из слов-синонимов, отличающихся лишь оттенками значения. По ее мнению, в синонимический ряд должны включаться синонимы, отличающиеся также стилем и сферой употребления, слова архаичного характера, употребительные в художественной литературе, а также, в ограниченном количестве, слова территориальных диалектов, распространенные в широко известных литературных произведениях [6, с. 7].
Рассматривая синонимические ряды, содержащие прономинанты, мы включаем в них единицы, в различной степени освоенные языком, в том числе и семантические окказионализмы. Ученые подразделяют окказионализмы на два разряда: во-первых – собственно окказионализмы, отличающиеся тем, что «при их образовании нарушаются (обычно сознательно, в целях нарушения экспрессивности) законы построения соответствующих языковых единиц, нормы языка» [3, с. 228]; во вторых – так называемые потенциальные слова (термин Г.О. Винокура), «которые произведены, но еще не закреплены традицией словоупотребления или могут быть произведены по образцу слов высокопродуктивных словообразовательных типов» [3, с. 218]. Прономинанты, еще не вошедшие в систему языка, относятся к разряду потенциальных слов. Мы называем их окказиональными, используя данный термин в широком значении.
Объектом рассмотрения данной статьи является синонимический ряд с доминантой критик . Обращение к словарям синонимов русского языка показывает, что состав данного ряда трактуется по-разному. Наиболее обширен состав ряда (семь единиц, из которых два прономинанта – зоил и аристарх ) в словаре Н. Абрамова: «критик, рецензент, судья, ценитель, эксперт; зоил, аристарх; порицатель, хулитель» [1, с. 66]. Четыре единицы (в том числе один прономиннат – зоил ) даны в словаре З.Е. Александровой: «критик; зоил ( устар. книжн. ) / несправедливый : критикан, хулитель ( книжн. )» [2, с. 187]. В прочих рассмотренных нами словарях прономинанты не включены в состав данного синонимического ряда. Однако, как показывают данные нашей картотеки, в состав ряда можно включить также апелля-тивизированные единицы Лабомель, Белинский и Латунский.
Перейдем к подробному рассмотрению прономинантов со значением критик , предварив анализ пояснением: Зоил – древнегреческий ритор и софист (4–3 вв. до н.э.), Аристарх – древнегреческий ученый (2 в. до н.э.). Оба они известны придирчивыми критическими комментариями к «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Л.Лабомель (1726–1773) – французский критик, высмеянный Вольтером. В.Г.Белинский (1811–1848) – основоположник русской революционно-демократической критики, Латунский – персонаж романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (опубл. 1967), литературный критик, резко раскритиковавший роман Мастера.
Прономинант зоил встречаются преимущественно в русской поэзии первой половины 19 века, например: Пускай от зависти сердца зоилов ноют./ Вольтер! Они тебе вреда не нанесут (Ф.И.Тютчев. Пускай от зависти…). Единичные случаи его употребления отмечены в современной публицистике, например: Эти зоилы, эти злобные критики могут только поливать грязью гибнущее отечественное кино (Телепередача; следует обратить внимание на тот факт, что в современной речи прономинант потребовал пояснения для телеаудитории). Ещё один пример зафиксирован в интернет-общении. Характерно, что слово зоил употребил человек образованный, поэт Лев Рубинштейн в дискуссии, развернувшейся в комментариях к его статье. Оппонент сказал о поэте «он - выродок рода человеческого, для которого нет ничего святого» , а поэт иронически парировал: «Ох, сильно сказано. Порадую близких и друзей. Спасибо. Как у вас, кстати, с работой кишечника? Все в порядке, надеюсь? С новым годом, мой верный зоил. Не падайте духом» (grani.ru/Culture/essay/rubinstein/172792.html, 29.12.2009).
Прономинант аристарх употребляется редко. Он отмечен в русской поэзии 19 века и в публицистике того же периода, например: У самих французов нередко раздаются странные кривые толки аристархов об их национальном поэте [Беранже] (Н.А.Добролюбов. Песни Беранже).
Обратимся к семантике прономинантов зоил и аристарх .
В специальной литературе нам встретилось мнение о том, что первый обозначает недоброжелательного, а второй – благожелательного критика (Д.Е.Максимов, Р.Е.Помирчий 1975, с.578). Относительно прономинанта зоил данная трактовка представляется нам бесспорной. Вот примеры, подтверждающие ее: Что ж было для тебя наградою, Торкват, /За песни стройные! Зоилов острый яд (К.Н.Батюшков. К Тассу); Надеясь на мое презренье, /Седой зоил меня ругал, /И, потеряв уже терпенье, /Я эпиграммой отвечал (А.С.Пушкин. Надеясь на мое презренье…); Хоть тысячу зоил пасквилей напиши, /Не вероломным свет хулителя признает ,/Но злым завистником иль попросту глупцом (В.А.Жуковский. Послание к кн. Вяземскому и В.Л.Пушкину).
Что касается прономинанта аристарх , то примеры нашей картотеки опровергают вышеупомянутое мнение: Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина – так они мелки, ничтожны и жалки (В.Г.Белинский. Статьи о Пушкине); Пусть юный наш Поэт, /Известный сочинитель, /Мой Аристарх, гонитель , /Стихи мои прочтет, /В сатиру их внесет (В.Л.Пушкин. К Д.В.Дашкову); Помилуй, трезвый Аристарх /Моих бахических посланий, /Не осуждай моих мечтаний /И чувства в ветреных стихах… /Но знаешь ли, о мой гонитель , /Как я беседую с тобой?
(А.С.Пушкин. Моему Аристарху); И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный Аристарх, его хвалит! Это, мол, не то, что западное искусство! Речь, судя по всему, идёт о суровом критике, т. к. чуть ранее о персонаже сообщается: Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведение уж по тому самому не годится никуда, что оно старо (И.С. Тургенев. Новь); «Какой страшный Аристарх! – думал я. – Хорошо, что у нас в России нет таких грозных критиков ». (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника); Стихи Державина […], служащие, так сказать, темою твоей статьи, не имеют, по моему мнению, никакого ясного смысла: ошибки писателя не извиняются его человеческими добродетелями; и самолюбие поэта, оскорбленное критикою , не утешится, когда он сам себе или его аристарх ему скажет: ты негодный поэт , но человек почтенный (В.А. Жуковский. О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю); Пусть хмурит брови Аристарх журнальный: /В печальном сердце – тихо и светло; /Въезжаю в гавань, – кончен путь мой дальний… (Д. Мережковский); Чуковский, Аристарх прилежный, /Вы знаете – люблю давно /Я вашей злости голос нежный, /Ваш ум, веселый, как вино. /И полной сладким ядом прозы /Приметливую остроту, / И брошенные на лету / Зоилиады и занозы, /Полу-цинизм, полу-лиризм, /Очей притворчивых лукавость, /Речей сговорчивых картавость / И молодой авантюризм (Вяч. Иванов)
Отметим, что наш вывод совпадает с данными БАСа (т.1, с.223). Таким образом, обе рассматриваемые единицы имеют значение ’суровый, недоброжелательный, беспощадный, придирчивый критик’.
Прономинанты зоил и Аристарх не имеют стилистических и семантических различий и различаются только сферой употребления (проза и поэзия). По нашему мнению, слово зоил более частотно именно в поэзии потому, что оно, благодаря своей краткости и благозвучности (отсутствие скоплений согласных, наличие только звонких согласных), уместнее в поэтической речи, чем слово Аристарх.
Прономинант Белинский зафиксирован в текстах XX–XXI вв. и функционирует в прозе. Приведём примеры. Данная единица встречается в мемуарах: Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера», и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а, подобно Воровскому, был бы дипломатом (В. Шаламов. Двадцатые годы). В примере не наблюдается семантических различий с доминантой. А вот представьте себе маленькую книжонку стихотворений, изданную в каком-нибудь райцентре, и в ней без подписи «Жди меня», неужели какой-нибудь Белинский, прочтя это «Жди меня», воскликнет, что он открыл настоящего поэта? (Т. Окуневская. Татьянин день; ср.: какой-нибудь критик, прочтя это «Жди меня», воскликнет, что он открыл настоящего поэта?)
Также прономинанит Белинский встретился в художественной речи: – Вы когда-нибудь научитесь писать стихи? – Пиши сам, -- сказал я сердито. – Я писать стихи не могу, – сказал Корнеев. – По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский. – Ты по натуре кадавр, – сказала Стелла. – Пардон! – потребовал Витька. – Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю ! (А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в субботу; ср.: я по натуре не поэт, я по натуре критик ).
Встречается анализируемая единица и в современной публицистике: Сто пятьдесят лет назад в Англии не нашлось своего Белинского, который назвал бы роман «Джейн Эйр» энциклопедией английской жизни (Телепередача); семантических различий с доминантой не выявлено (ср.: В Англии не нашлось критика ).
Отметим также случай, не являющийся прономинацией, однако указывающий на то, что фамилия Белинский стала нарицательной. Поэт Саша Черный назвал стихотворение, посвященное Корнею Чуковскому, известному литературному критику, «Корней Белинский»: Post scriptum. Иногда Корней Бе- линский / Сечет господ, цена которым грош! / Тогда гремит в нем гений исполинский / И тогой с плеч спадает макинтош!..
Анализ приведённых примеров позволяет сделать вывод о том, что данный прономинант отличается от доминанты лишь стилистически.
Окказиональный прономинант Латунский встретился нам в интернет-общении: Я Латунский . В Сообществе Анонимных Графоманов меня официально приняли в свежесозданную Гильдию Критиков и повесили мне в профиль красивую табличку « Критик » (пользователь sestra-milo, 20.01.2011). В данном примере у прономинанта не наблюдается семантических различий со словом критик ; слово Латунский отличается от доминанты лишь стилистически.
Окказиональный прономинант Лабомель встретился нам в стихотворении В.Л. Пушкина «А.С.Пушкину». Московским Лабомелем поэт назвал Н.А. Полевого, критика, который обвинял А.С. Пушкина в подражании литературным предшественникам. В стихотворении, обращенном к своему гениальному племяннику, поэт писал: Пусть бесится , ворчит московский Лабомель: /Не оставляй свою прелестную свирель! /Пустые критики достоинств не умалят; /Жуковский, Дмитриев тебя и чтут, и хвалят... Подчеркнутые слова помогают выявить семантику прономинанта Лабомель – ’не-доброжелательный критик’. Таким образом, данный прономинант отличается от доминанты критик стилистически и семантически.
Произведённый анализ позволяет, как нам представляется, расширить состав синонимического ряда с доминнатой критик и включить в него следующие апеллятивизированные единицы: зоил , а ристарх, Лабомель, Белинский и Латунский .
Список литературы Апеллятивизированные единицы, пополнившие синонимический ряд с доминантой «критик»
- Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 7-е изд., стереотип. Москва: Русские словари, 1999.
- Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 2001.
- Земская Е.А. Современный русский язык: Словообразование. М.: Просвещение, 1973.
- Карпова К.И. Семантические взаимоотношения синонимов одного ряда: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Рига, 1962.
- Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966.
- Клюева В.Н. О синонимах и синонимическом словаре//Краткий словарь синонимов русского языка. М.: Учпедгиз, 1961.
- Кудрявцева А.А. Синонимический потенциал апеллятивизированных единиц//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2013. № 1. С. 40-45.
- Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Общая и частные классификации. Терминологический словарь. М.: ЛЕНАНД, 2006.
- Москвин В. П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигур, жанры, стили: монография. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
- Новиков Л.А. Семантика русского языка. М.: Высшая школа, 1982.
- Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке. М.: Наука, 1964.
- Сиротина В.А. Лексическая синонимика в русском языке. Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1960.
- Словарь современного русского литературного языка в 17-ти т.т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948-1965. (БАС)