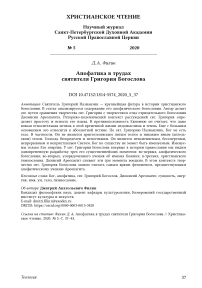Апофатика в трудах святителя Григория Богослова
Автор: Филин Дмитрий Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 5 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Святитель Григорий Назианзин - крупнейшая фигура в истории христианского богословия. В статье анализируется содержание его апофатического богословия. Автор делает это путем сравнения творчества свт. Григория с творчеством отца отрицательного богословия Дионисия Ареопагита. Риторико-полемический контекст рассуждений свт. Григория определяет простоту и ясность его языка. В противоположность Евномию он считает, что даже всякая относительная истина в этой временной жизни недомыслима и темна. Еще с большим основанием это относится к абсолютной истине. По свт. Григорию Назианзину, Бог не есть тело. В частности, Он не является аристотелевским пятым телом и никаким иным (ангельским) телом. Господь беспределен и непостижим. Он является неизменяемым, бессмертным, непрерывным и неприступным Светом. Бог по существу не может быть именуемым. Именуемы только Его энергии. У свт. Григория Богослова впервые в истории православия мы видим одновременную разработку трех его существеннейших моментов: во-первых, апофатического богословия; во-вторых, упорядоченного учения об именах Божиих; в-третьих, христианского гимнословия. Динисий Ареопагит сливает эти три момента воедино. В этом контексте творчество свт. Григория Богослова можно считать самым ярким феноменом, предшествующим апофатическому учению Ареопагита.
Бог, апофатика, свт. григорий богослов, дионисий ареопагит, сущность, энергия, имя, ум, тело, гимнословие
Короткий адрес: https://sciup.org/140250816
IDR: 140250816 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_37
Текст научной статьи Апофатика в трудах святителя Григория Богослова
Candidate of Philosophical Sciences, Assistant Professor at the Department of Cultural Studies at Kemerovo State Institute for Culture and the Arts.
Святитель Григорий Богослов является одним из самых известнейших отцов Церкви. Он довел до предельного совершенства учение о Святой Троице, правильнее и полнее, чем кто-либо до него, раскрыл тему христианской пневматологии. Отсюда постоянный интерес к его жизни и творчеству, который мы наблюдаем на протяжении полутора тысяч лет. Одной из граней творчества свт. Григория является его апо-фатическое учение. Однако представляется досадным, что этой теме подчас отводится довольно мало места в посвященных ему трудах. Более того, А. Ф. Лосев даже писал о том, что учение о непознаваемом Сверх-Мраке замечательно раскрыто у Дионисия Ареопагита и христианских мистиков XIV в., но оно «очень слабо дано» у свв. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина [Лосев, 1994, 357]. Но так ли это на самом деле? Мы полагаем, что в данном случае великий русский философ не прав. И чтобы это доказать, обратимся к самим первоисточникам. Мы рассмотрим учение свт. Григория в сравнении с соответствующим учением Дионисия Ареопагита. Такое рассмотрение оправданно, поскольку Дионисий Ареопагит является центральной фигурой в этой тематике. Он — отец отрицательного богословия [Булгаков, 1994, 105].
Подчеркнем, что интерес к апофатическому богословию всегда связан с ощущением присутствия Тайны в этом мире. «Но что со мною сделалось, друзья, свидетели тайны и подобные мне любители истины? Я шел с тем, чтобы постигнуть Бога; с этой мыслью, отрешившись от вещества и вещественного, погрузившись насколько мог сам в себя, восходил я на гору. Но когда простёр взор, едва увидел сзади Бога (Исх 32:22–23) и то покрытого Камнем (1 Кор 10:4), то есть воплотившимся ради нас Словом», — так обращается во втором Слове о богословии свт. Григорий Назианзин к своей аудитории (Григорий Богослов, 2000, I, 478). И мы сразу начинаем невольно сравнивать его с отцом отрицательного богословия Дионисием Ареопагитом, поскольку он является в апофатическом контексте главной фигурой. Дионисий обращается к посвященным, свт. Григорий Богослов — ко всем. Первый постоянно гимнословит (υμνειν), второй читает проповеди, а когда находит поэтическое вдохновение, берется за перо и также воспевает Бога, но одно отдельно от другого (Григорий Богослов, 2000, II, 125, 126 и др.; Дионисий Ареопагит, 2003, 217, 241, 279, 339, 343, 449, 451, 525 и др.)! Различия эти не случайны. Мысль свт. Григория Богослова развивается в контексте полемики с Евномием, который полагал, что сущность Бога постижима для человека, как и всякая другая сущность: «О сущности своей Бог знает нисколько не больше нашего», — заявлял он (Сократ Схоластик, 1996, 173). И это-то как раз и заставляло св. Григория Назианзина подчёркивать, что вообще даже «всякая истина и всякое слово для нас недомыслимы и темны», а что же тем более говорить о Боге, Который представляет Собой глубочайшую основу всего сущего? (Григорий Богослов, 2000, I, 479, 491; II, 96). Риторико-полемический контекст рассуждений обуславливает простоту и ясность мысли свт. Григория. Для него важно, чтобы всё сказанное удобно было объять одним взором, а мысль не растекалась, как вода по равнине, когда она не заключена в трубе (Григорий Богослов, 2000, I, 503).
По свт. Григорию, Бога нельзя назвать телом, ибо Он не имеет пределов и очертаний, неосязаем и незрим. Телу присуща сложность, но сложность — начало разделения, а разделение — разрушения, последнее же совсем не свойственно Богу. Притом Богу свойственно всё проницать и всё наполнять. Таким образом, Он не может ничем ограничиваться. Практически перед нами квинтэссенция того, о чем рассуждал Ориген в труде «О началах». Тезис там и здесь один и тот же — Бог не есть тело. Но у Оригена мысль подчас дробится на ряд частных аспектов, свт. Григорий же уже исходит из их обобщений. Мысль его — яснее, прямее и собраннее. Оригеново «Бог непостижим и неоценим» звучит в середине потока мыслей, у свт. Григория же это начало и итог его рассуждений. О «пятом теле» Аристотеля (то есть о круговращаю-щемся эфире) святитель пишет так: «Не говорю как оскорбительно предположение будто бы Сотворивший с сотворённым и Носящий с носимым движутся одинаково… Но что же опять Его движет? Чем движется всё? Чем приводится в движение и то, от чего всё движется? А потом что движет и это самое? — и так до бесконечности. Очевидно, что имеющий причиной Самого Себя не может двигаться чем-то иным», то есть не может быть ни «пятым телом» и никаким иным (ангельским имеется в виду). «Если Он находится в чем-нибудь, то будет ограничиваться [этим] малым чем-нибудь. Если же повсюду, то более, нежели чем-нибудь, а и иным многим, то есть как содержимое содержащим, так что весь Бог всем миром будет [и] ограничиваться, и ни одно в Нем место не останется свободным от ограничения. Таковы затруднения, если Бог в мире!» — восклицает свт. Григорий (Григорий Богослов, 2000, I, 483). Представить Его выше мира буквально мы так же не можем, так как «выше» предполагает нечто пространственное, а следовательно, и ограниченное. Вообще примечательно, что текст Дионисия Ареопагита немыслим без огромного массива слов, начинающихся с префикса сверх- (υπερ-), святитель же Григорий воздерживается от таковых (Григорий Богослов, 2000, I; ср. Дионисий Ареопагит, 2003).
Он считает, что Источник бытия и познания непознаваем. «Не говорю ещё о том, что Божество необходимо будет ограничено, если Оно постигнется мыслью. Ибо и понятие есть вид ограничения». Таким образом, «Божество непостижимо для человеческой мысли и мы не можем представить Его во всей полноте», — подводит он итог своим рассуждениям (Григорий Богослов, 2000, I, 481–484). И поправляет Платона: «„Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно'1, — так любомудрствовал один из эллинских богословов». Нет, полагает святитель, «изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно». Ибо что хоть как-то постигнуто разумом, можно передать посредством слова. Но объять мыслью столь великий предмет совершенно немыслимо даже для самых возвышенных боголюбивых людей (Григорий Богослов, I, 479; ср. Платон, 1994, 432; Климент Александрийский, 2003, 190).
Бог, по свт. Григорию, — это неизменяемый, вечносущий, непрерывный и неприступный свет (Григорий Богослов, 2000, I, 482, 796). Он — беспределен и неудобосо-зерцаем и подобен некоему неопределимому и бесконечному морю сущности (Григорий Богослов, 2000, I, 635, 805). В Нем совершенно постижимо только это одно — Его беспредельность (Григорий Богослов, 2000, I, 635, 805; II, 25). Облик Создателя убегает, прежде нежели будет уловлен, ускользает, прежде нежели будет умопредставим. «И это, кажется мне, для того, чтобы постигаемым привлекать к Себе (ибо совершенно непостижимое безнадежно и недоступно), а непостижимым приводить в удивление, через удивление же возбуждать большее желание, и через желание очищать, и через очищение сделать богоподобными; а когда сделаемся такими, уже беседовать как с вечными (дерзнет слово изречь нечто смелое) — беседовать Богу, вступившему в единение с богами и познанному ими, может быть настолько же, насколько Он знает познанных Им (1 Кор 13:12)» (Григорий Богослов, 2000, I, 636, 805). Так через антиномическое единство катафатического и апофатического богословий святитель определяет смысл человеческой жизни. Смысл этот заключается в богопознании.
В своих Словах свт. Григорий Назианзин пишет: «Разум, рассматривая беспредельное в двух отношениях — в отношении к началу и в отношении к концу (ибо беспредельное простирается далее начала и конца и не заключается между ними), когда устремляет взор свой в горнюю бездну и не находит, на чем остановиться и положить предел своим представлениям о Боге, тогда беспредельное и неисследимое называет безначальным, а когда, устремившись в дольнюю бездну, испытывает подобное прежнему, тогда называет Его бессмертным и нетленным; когда же сводит в единство то и другое, тогда именует вечным, ибо вечность не есть ни время, ни часть времени, потому что она неизмерима» (Григорий Богослов, 2000, I, 636, 805–806). Ясно, что здесь перед нами общедоступное рассуждение о непостижимости Бога. Непостижимо не то, что Бог существует, а то, что Он из Себя представляет, — подчеркивает святитель явно для аудитории. Ей же особенно интересно знать: познает ли человек Божественную сущность, когда освободится от грубой плоти, или нет? И он отвечает так на этот вопрос: «Бога, что Он по естеству и сущности, никто из людей никогда не находил и, конечно, не найдет. А если и найдет когда-нибудь, то пусть разыскивают и любомудрствуют об этом желающие. Найдет же, как я рассуждаю, когда это богоподобное и Божественное, то есть наш ум (νουν) и наше слово (λογον) соединятся со сродным себе, когда образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь стремится. И это, как [я] думаю, выражается в том весьма любомудром учении, по которому познаем некогда, насколько сами познаны (1 Кор 13:12). А что в нынешней жизни достигает до нас, есть тонкая струя и как бы малый отблеск великого света» (Григорий Богослов, 2000, I, 489). Таким образом, возможность совершенного богопознания свт. Григорий относит к будущему веку. У Оригена находим подобное сравнение: ум человеческий, познающий Бога, сродни человеку, который может видеть искру света или свет коротенькой свечи, но не может видеть блеск солнца, одно бесконечно превосходит другое! (Ориген, 1993, 42).
Читая Дионисия Ареопагита, иногда вовсе этой дистанции между настоящим и будущим веком как бы не чувствуешь. Неслучайно одно из Имен Бога, по Дионисию Ареопагиту, — это Экстаз. Свт. Григорий Богослов же его специально, кажется, не выделяет. Остальные рассматриваемые имена практически одинаковы. Свт. Григорий в своих рассуждениях всегда благородно сдержан: он не дерзает именовать ипостасные свойства Сына и Духа преизлиянием благости, как это сделал Плотин. Любомудрствуя о Едином, основатель неоплатонизма применил выражение «Он как бы через края всем переполнен; именно это переполнение и произвело нечто другое» (Плотин, 1995, 137). Свт. Григорий не дерзает это утверждать из опасения, чтобы «не ввести непроизвольного рождения и как бы естественного и неудержимого исторжения, что всего менее сообразно с понятиями о Божестве» (Григорий Богослов, 2000, I, 504). Неясные тени Святой Троицы в этой жизни приводят его в восторг, но пишет об этом он весьма сдержанно в одном из стихотворений (Григорий Богослов, 2000, II, 475).
Иное дело — Дионисий Ареопагит. С. С. Аверинцев, анализируя стиль Ареопаги-та, употребляет по отношению к его манере оксюморон: «навязанная воображению невообразимость» [Аверинцев, 1977, 138-140]. Григорий Богослов же ничего не навязывает, ибо в его рассуждениях нет той интенсивной игры антитез, тавтологий и повторов, которая характерна для Псевдо-Дионисия. Например: «Поэтому всякое состояние покоя и движения — из Него, в Нем, в Него и ради Него. Ибо из Него и благодаря Ему происходят и сущность, и всяческая жизнь и ума и душ; и ничтожность, равность и величие во всякой природе; все меры, соответствия сущего и гармонии; слияния, целостности и части; всякое единство и множество; соединения частей, единства всякого множества; совершенства целостности; качество и количество; величина и необъятность; соединения и разделения; всякая беспредельность и всякий предел; все границы, порядки, чрезмерности, элементы, виды, всякая сущность, всякая сила, всякая энергия, всякое свойство, всякое чувство, всякое слово, всякое помышление, всякое прикосновение, всякое знание, всякое единство. И просто говоря, всё сущее, возникая из Прекрасного и Добра, пребывая в Прекрасном и Добре, возвращается в Прекрасное и Добро» (Дионисий Ареопагит, 2003, 323–325). Таким образом, и здесь Бог — это Прекрасное и Добро, превышающее всякий покой и всякое движение. Подчеркнем, что у Дионисия Ареопагита Бог — это Сверх- и Не-сущее одновременно. В отличие от кантовской апофатики, такое «не» предполагает всю мощь имеющихся предикатов и даже превосходит их, так что «не» всегда мыслится как «сверх-не». Ареопагит так и пишет о восхождении путем отрицаний, как об изымающем душу из сродного ей (Дионисий Ареопагит, 2003, 563).
Как видим, в целом план выражения в апофатическом учении Дионисия более совершенен, чем у свт. Григория Богослова. У Ареопагита рассуждения об Именах Божиих всегда «тонут» в контексте апофатики. У свт. Григория же тема Имен — это, условно говоря, отдельная тема. Он впервые классифицирует их на три разряда: те, которые относятся к Божественной сущности (Сущий, Бог, Господь); те, которые указывают на Его власть над миром (Вседержитель, Царь славы, Господь Саваоф и др.) и те, которые относятся к Его домостроительству, то есть каким-либо действиям во благо человека (Бог спасения, Бог мира, Бог Авраама, Исаака и Иакова и т. д.). «Именно святитель Григорий, — подчеркивает митр. Иларион (Алфеев), — был первым, кто на восточно-христианской почве создал стройное учение об именах Божиих» [Алфеев, 2013, 280–288]. По свт. Григорию, Божество по сути неименуемо. Именуемы только Его энергии (Григорий Богослов, 2000, II, 4). Так в пику Евномию рассуждал он. «Ибо как никто никогда не вдыхал в себя весь воздух, так и сущность Божию никоим образом ни ум не может вместить, ни слово объять. Напротив, к изображению Бога, заимствуя некоторые черты из того, что окрест Бога, составляем мы какое-то неясное и слабое, по частям собранное из того и другого, представление, и лучший у нас богослов не тот, кто все нашел (эти узы (то есть тело человеческое) не вместят в себя всего!), но тот, чьё представление обширнее, и кто образовал в себе более полное подобие или оттенок (или как бы ни назвать это) истины» (Григорий Богослов, 2000, I, 534-535). «Ведь все Божественное, явленное нам, познается только путем сопричастности, — вторит ему Псевдо-Дионисий. — А каково оно в своем начале и основании — это выше ума, выше всякой сущности и познания» (Дионисий Ареопагит, 2003, 265). В учении об Именах Божиих свт. Григорий отталкивался, очевидно, от Аристотеля («Об истолковании»), а не Платона («Кратил») [Алфеев, 2002, 96].
Особым образом близок в плане выражения Ареопагиту великий каппадокиец именно в поэтическом творчестве. Можно говорить о том, что оба богослова в своих произведениях гимнословят — воспевают Бога [Говоров, 268–276; Алфеев, 2013, 288; Лосев, 1994, 365]. Свт. Григорий и был одним из первых среди христиан, кто написал стихотворение, в центре которого — именно апофатическая тематика (конечно, мы имеем в виду только тех авторов, тексты которых дошли до наших дней):
О Ты, Который по ту сторону всего (Ω παντων επεκεινα)!
Ибо что иное можно пропеть о Тебе?
Как слово воспоет Тебя? Ибо Ты невыразим никаким словом!
Как ум воззрит на Тебя? Ибо Ты непостижим никаким умом! Ты один неизречен, ибо Ты родил все изрекаемое.
Ты один непознаваем, ибо Ты родил все познаваемое.
Тебя провозглашает все говорящее и неговорящее.
Тебя чтит все разумное и неразумное.
Общие для всех желания, общие болезнования всех Устремлены к Тебе! Тебе все молится. Тебе все, Понимающее Твое повеление, воссылает безмолвный гимн. Тобою единым все пребывает. К Тебе все в совокупности стремится. Ты предел всего, Ты и Един, и Все, и Никто,
И ни единое, ни все. О Всеименуемый! Как назову Тебя, Единого неименуемого? Сквозь заоблачные покровы Какой небесный ум проникнет? Будь милостив,
О Ты, Который по ту сторону всего! Ибо что иное можно пропеть о Тебе?1
Может быть, Дионисий Ареопагит и имел в виду именно свт. Григория, когда писал, что богословы воспевают Бога как безымянного и сообразного всякому имени ((Дионисий Ареопагит, 235), ср.: [Алфеев, 2013, 288]).
Таким образом, у свт. Григория Назианзина мы впервые в истории видим одновременную разработку трех моментов, существеннейших для православного вероучения: во-первых, отрицательного богословия; во-вторых, упорядоченного учения об Именах Божиих; в-третьих, апофатического гимнословия. Дионисий Ареопагит в своем трактате «Об Именах Божиих» все эти три момента сольет воедино, сделает их текстуальным смысловым целым. Поэтому творчество свт. Григория Назианзина можно считать самым ярким феноменом, предшествующим апофатике Дионисия Ареопагита.
Список литературы Апофатика в трудах святителя Григория Богослова
- Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. Т. 1. 832 с.; Т. 2; 688 с.
- Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб.: Алетейя, 2003. 864 с.
- Климент Александрийский. Строматы. Т. 2 (Книги 4-5) / Издание подготовил Е. В. Афонасин. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2003. 336 с.
- Ориген. О началах. Самара: Самарский Дом печати, 1993. 318 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1994. Т. 3. 654 с.
- Плотин. Эннеады: в 2 т. Киев: Уцимм-пресс, 1995. Т. 1. 392 с.
- Сократ Схоластик. Церковная история. М.: Российская политическая энциклопедия, 1996. 368 с.
- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. 320 с.
- Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. 415 с.
- Виноградов Н., свящ. Догматическое учение святого Григория Богослова. Казань: Типография Императорского Университета, 1887. 508 с.
- Говоров А. В. Св. Григорий Богослов как христианский поэт. Казань: Типография Императорского Университета, 1886. 319 с.
- Иларион (Алфеев), еп. Священная тайна Церкви: введение в историю и проблематику имяславских споров: в 2 т. СПб.: Алетейя, 2002. Т. 1. 653 с.
- Иларион (Алфеев), митр. Жизнь и учение святителя Григория Богослова. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Вече, 2013. 576 с.
- Лосев А. Ф. Миф-Число-Сущность / Сост. А. А. Тахо-Годи; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. М.: Мысль, 1994. 919 с.
- Лосский В. Н. Боговидение / Пер. В. А. Рещиковой. М.: АСТ, 2006. 759 с.
- Флоровский Г. В. Восточные Отцы Церкви. М.: АСТ, 2003. 638 с.