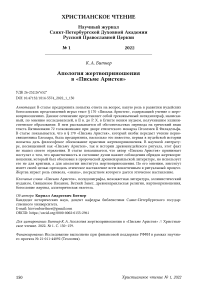Апология жертвоприношения в "Письме Аристея"
Автор: Битнер Кирилл Андреевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: "Письмо аристея"
Статья в выпуске: 1 (100), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка ответа на вопрос, какую роль в развитии иудейских богословских представлений играл текст § 170 «Письма Аристея», содержащий учение о жертвоприношениях. Данное сочинение представляет собой грекоязычный псевдэпиграф, написанный, по мнению исследователей, в II в. до Р. Х. в Египте неким иудеем, получившим эллинистическое образование. В нем рассказывается об обстоятельствах перевода на греческий язык текста Пятикнижия 72 толковниками при дворе египетского монарха Птолемея II Филадельфа. В статье показывается, что в § 170 «Письма Аристея», который якобы передает учение первосвященника Елеазара, была предпринята, насколько это известно, первая в иудейской истории попытка дать философское обоснование практики жертвоприношения. В научной литературе, посвященной как «Письму Аристея», так и истории древнеиудейского ритуала, этот факт не нашел своего отражения. В статье показывается, что автор «Письма Аристея» принимает постулат о том, что нравственность и состояние души важнее соблюдения обрядов жертвоприношения, который был обоснован в пророческой древнеизраильской литературе, но использует его не для критики, а для апологии института жертвоприношения. По его мнению, институт имеет своей целью преподать этическое наставление всем вовлеченным в ритуальный процесс. Жертва играет роль символа, «знака», посредством которого дается этическое наставление.
Письмо аристея, псевдэпиграфы, межзаветная литература, эллинистический иудаизм, священное писание, ветхий завет, древнеизраильская религия, жертвоприношения, богословие жертвы, аллегорическая экзегеза
Короткий адрес: https://sciup.org/140290613
IDR: 140290613 | УДК: 26-252:26"652" | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_1_150
Текст научной статьи Апология жертвоприношения в "Письме Аристея"
Funding: The reported study was funded by RFBR as part of the research project No. 21-011-44092 (Theology).
В настоящей статье мы постараемся дать ответ на вопрос, какую роль в развитии иудейского богословия играл небольшой текст 170-го параграфа (§ 170) так называемого «Письма Аристея», содержащий учение о жертвоприношениях. В первой части статьи (Богословие жертвы в § 170 «Письма Аристея») мы рассмотрим круг идей, представленных в нем. Во второй части (Богословское осмысление жертвоприношений в древнем Израиле и Иудее) мы рассмотрим последние в контексте истории развития представлений о жертве в древнем Израиле и Иудее.
Памятник, получивший в научной среде название «Письмо Аристея к Филокра-ту», или кратко «Письмо Аристея»1, представляет собой грекоязычный псевдэпиграф, написанный, по мнению исследователей, во II в. до Р. Х. в Египте, видимо, в Александрии, неким иудеем, получившим эллинистическое образование [Bickerman, 2007, 108-133; Wright III, 2015, 16-30]2. В этом сочинении рассказывается об обстоятельствах перевода на греческий язык текста Пятикнижия 72 толковниками, события, которое, если верить тексту источника, произошло при дворе египетского монарха Птолемея (Птолемей II Филадельф, правил примерно в 283-246 гг. до Р. Х.). Рассказчиком является язычник по имени Аристей, придворный Птолемея, относящийся с симпатией к иудаизму, адресатом — некий Филократ, также язычник. Большинство современных исследователей полагает, что основной аудиторией, для которой было первоначально предназначено произведение, были образованные египетские грекоязычные иудеи [Honigman, 2003, 27–29; Moore, 2015, 204–254; Wright III, 2015, 62–74], хотя некоторые [Matusova, 2015] склоняются к тому, что сочинение было написано как для иудеев, так и для язычников.
В сочинении рассказывается, в частности, о путешествии Аристея в Иерусалим и о встрече с первосвященником Елеазаром, который ответил на ряд вопросов, заданных Аристеем и его спутниками и касающихся иудейских законов. Передаче содержания бесед с первосвященником посвящено 44 параграфа (§§ 128–171), что составляет довольно значительную часть сочинения (всего в последнем 322 параграфа). Речи Елеазара представляют собой апологию некоторых положений Моисеева закона. В частности, он подчеркивает разумный характер заповедей о чистых и нечистых животных (§§ 128-133), критикует греческое и египетское идолопоклонство и обосновывает необходимость законодательства, которое являлось бы преградой для смешивания иудеев с другими народами, поклоняющимися идолам (§§ 134-143), дает аллегорическое толкование заповедей о чистых и нечистых животных (§§ 144–157, 161–169), отдельно объясняя, почему животные с раздвоенными копытами и жующие жвачку являются «чистыми» (§§ 150–157), а также заповедей о принесении начатков Богу, о цицит, филактериях и мезузот (§§ 158–160). В самом конце этого раздела приводится краткое рассуждение о жертвоприношениях (§ 170), которому и посвящена наша статья.
Богословие жертвы в § 170 «Письма Аристея»
Древнегреческий текст § 170 «Письма Аристея» (Lettre d’Aristee, 1962, 182) выглядит следующим образом:
Ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς ἐνόμιζε περὶ ἑκάστων ἀπολογεῖσθαι· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν προσφερομένων ἔλεγε μόσχων τε καὶ κριῶν καὶ χιμάρων, ὅτι δεῖ ταῦτα ἐκ βουκολίων καὶ ποιμνίων λαμβάνοντας ἥμερα θυσιάζειν, καὶ μηθὲν ἄγριον, ὅπως οἱ προσφέροντες τὰς θυσίας
μηθὲν ὑπερήφανον ἑαυτοῖς συνιστορῶσι, σημειώσει κεχρημένοι τοῦ διατάξαντος. τῆς γὰρ ἑαυτοῦ ψυχῆς τοῦ παντὸς τρόπου τὴν προσφορὰν ποιεῖται ὁ τὴν θυσίαν προσάγων.
Итак, мне же прекрасным казалось все, что он защищал. Ибо относительно приносимых в жертву тельцов, баранов и козлов он говорил, что нужно приносить в жертву одомашненных животных, взятых из крупного и мелкого скота, но не диких, с тем, чтобы те, кто приносит жертвы, рассматривая их как знак, данный законодателем, не признавали за собой ничего высокомерного. Ибо приносящий жертву совершает приношение всего характера собственной души3.
В данном коротком тексте представлена апология иудейских жертвоприношений. В частности, в нем объясняется, по какой причине приносятся в жертву только одомашненные, а не дикие животные. При этом автор использовал те же принципы аллегорической экзегезы закона Моисеева, что и в отрывках, содержащих речи Елеазара о чистых и нечистых животных (§§ 144–157, 161–169). В самом начале первого отрывка (§ 144) содержится преамбула, в которой объясняется, что Моисей дал законы вовсе не потому, что заботился о животных4, но преследуя воспитательные цели5. В отрывке, посвященном истолкованию законов о птицах и других крылатых созданиях (§§ 145–149), мы можем найти очень подробное объяснение того, почему одни птицы являются «чистыми», а другие признаются «нечистыми»: «чистыми» считаются только те, которые приручены (ἥμερα), выделяются своей чистотой и питаются зерном и бобовыми культурами (§ 145), а «нечистыми» — дикие (ἄγριά) и плотоядные, которые поедают прирученных человеком птиц, похищают ягнят и козлят и даже могут нанести вред человеку (§ 145). Посредством этих заповедей, согласно мысли автора, законодатель дал знак (παραδέδωκεν ὁ νομοθέτης σημειοῦσθαι) разумным о том, что необходимо быть справедливым и никого не угнетать (§ 148). Сходным образом автор истолковывает законы о жертвоприношениях в § 170: приносить в жертву можно только одомашненных животных (ἥμερα), но не диких (μηθὲν ἄγριον), поскольку это является знаком (σημείωσις), данным законодателем, о том, что жертвователи не должны быть высокомерными.
Отметим, что в § 170 использовано довольно редкое греческое существительное ἡ σημείωσις «знак», которое встречается в тексте «Письма Аристея», помимо данного отрывка, только в § 161 в выражении σημείωσις ὀρθοῦ λόγου «обозначение разумной мысли»6. Также оно один раз используется в текстах древнегреческого перевода Библии в Пс 59:67, где является эквивалентом древнееврейского слова nēs «знамя, флаг». Можно предположить, что в тексте «Письма Аристея» оно выступает в качестве синонима родственного слова τὸ σημεῖον «знак, символ», которое используется значительно чаще (§§ 44, 150, 159, 270). В частности, последнее фигурирует в отрывке (§ 150), посвященном аллегорическому истолкованию законов о «чистоте» животных: по мысли автора, раздвоенность копыт животного является знаком (σημεῖόν) того, что людям необходимо обдумывать (буквально «разделять») все свои дела, выбирая хорошее. Кроме того, в § 159 слово τὸ σημεῖον встречается в пересказе содержания библейской заповеди о ношении филактерии на руке и используется уже в древнегреческом переводе текстов Пятикнижия (Исх 13: 9, 16; Втор 6:8; 11:18). В «Письме Аристея» дается истолкование этого «знака» — последний указывает на то, что во всех делах нужно поступать справедливо, помня о собственном устройстве и имея страх Божий. Необходимо также отметить использование в «Письме Аристея» (§§ 148, 151, 234) форм глагола o"npEiovo"9ai «давать знак», образованного от существительного τὸ σημεῖον, которые фигурируют, в частности, в уже упоминавшихся отрывках о чистых и нечистых животных (§§ 148, 151).
Учение о жертвоприношениях, изложенное в § 170, сопоставимо не только с теми отрывками, в которых использовано существительные ἡ σημείωσις, τὸ σημεῖον и формы глагола o"npEioua9ai, но и с текстом §§ 305-306, в котором объясняется обычай омовения рук перед молитвой. В нем сообщается о том, что Аристей увидел, как перед началом своей работы переводчики омывали в море руки, а затем, совершив молитву, читали и переводили священный текст. Спросив у них о значении этого обычая, он получил ответ, согласно которому подобный обряд является «свидетельством (papTupiov) того, что они не сделали ничего худого, поскольку каждое действие совершается посредством рук» (§ 306).
Сопоставляя текст § 170 с другими отрывками «Письма Аристея», в которых приводится аллегорическое истолкование различных иудейских законов и обычаев, мы можем прийти к следующим выводам:
-
а) данный отрывок содержит апологию иудейских жертвоприношений, в нем обосновывается разумный характер этой культовой практики;
-
б) в отрывке подчеркивается дидактический характер заповедей о жертвоприношениях;
-
в) согласно мысли автора, эти заповеди обладают не столько ритуальным, сколько этическим значением;
-
г) согласно мысли автора, этическое наставление дается посредством «знака», которым служит сама предписанная Моисеевым законом практика приносить в жертву одомашненных, а не диких животных;
-
д) данный знак указывает на недопустимость высокомерия;
-
е) сущность жертвоприношения заключается в том, что принесение в жертву животного символизирует приношение Богу всего «характера души» жертвователя.
Подобное объяснение функции жертвоприношений явилось новым для иудейской традиции эпохи Второго храма, по крайней мере, в той мере, в какой она нам известна. Для иллюстрации данного тезиса мы сделаем краткий экскурс в историю развития богословия жертвы в древнем Израиле и Иудее8.
Богословское осмысление жертвоприношений в древнем Израиле и Иудее
В древности в ближневосточном регионе жертвоприношение, в частности принесение в жертву животных, было обычной ритуальной практикой. При этом сам процесс жертвоприношения обычно рассматривался как кормление божества. В частности, в Месопотамии жертвы приносились божествам ежедневно. Кроме того, жертвоприношения совершались в праздничные дни, а также по особым поводам независимо от календаря. В «рацион» богов входили чаще всего мясо быков, овец, птиц и даже крыс, рыба, молочные продукты, елей, фрукты и овощи, пиво и вино. Как правило, не приносились в жертву животные, которые использовались для верховой езды (лошади и ослы), а также свиньи. Мясо животных приготовлялось, а затем ставилось перед статуями богов [Scurlock, 2002, 389–403; Scurlock, 2006, 13–49; Nowicki, 2014, 211– 224]. Наиболее ярким примером в месопотамской литературе, иллюстрирующим отношение к жертвоприношению как к кормлению божеств, может служить аккадский поэтический текст мифического содержания «Когда боги подобно людям™», известный также как «Сказание об Атрахасисе» (начало II тыс. до Р. Х.). В нем передается содержание месопотамской версии сказания о Всемирном потопе, длившемся, согласно тексту этого памятника, семь дней и семь ночей. В частности, в «Сказании об Атра-хасисе» описываются страдания богов от голода и жажды, оставшихся без пищи и питья (без пива) во время потопа, и сообщается о том, как Атрахасис, главный герой сказания (аналог ветхозаветного Ноя), спасшийся во время потопа, совершил жертвоприношение богам, после чего «боги, почуяли благовонный запах, к приношению, словно мухи собрались™» (Сказание об Атрахасисе, 1981, 73)9. После того как боги «вкусили жертвы», богиня Нинту упрекает бога Энлиля, необдуманно замыслившего потоп, в том, что и он также «приблизился к жертве» (Сказание об Атрахасисе, 1981, 73). Более краткая версия этого рассказа присутствует также в «Эпосе о Гильгамеше» в табличке XI. Практика жертвоприношений осмысливалась как кормление божеств, вероятно, также в древних Сирии и Палестине, хотя мы знаем о жертвоприношениях в этой части древнего Ближнего Востока гораздо меньше, чем о жертвоприношениях в Месопотамии (текстов из Месопотамии сохранилось намного больше). По крайней мере, до нас дошли свидетельства из Угарита (XIII–XII вв. до Р. Х.) о том, что богов «кормили» и «поили» жертвоприношениями10. В частности, в угаритском поэтическом тексте «Легенда об Акхату» рассказывается о том, как герой по имени Даниил, не имея потомства, приносил еду и питье в дар богам на протяжении шести дней, а на седьмой день его молитвы были услышаны Ваалом.
По мнению многих исследователей ветхозаветной религии, в древнем Израиле также было распространено представление о том, что Бог Яхве питается жертвами. В частности, полагали, что оно нашло свое отражение в некоторых формулировках, которые использовались в Библии, как правило, в тестах Пятикнижия: в древнеевр. re h nihoah «благоухание приятное» (Быт 8:21; Лев 1:9, 13, 17 и др.), lehem panim «хлебы предложения» (дословно «хлеб лица», Исх 25:30; 35:13 и др.), laḥmi «хлеб Мой» (Числ 28:2), leḥem ˀĕloheḵå «хлеб твоего Бога» (Лев 21:8) и в некоторых других [Heger, 1999, 322-330]. Кроме того, полагали, что также и обычай приносить жертву всесожжения (древнеевр. ˁolå) дважды в день, а также в календарные праздники, осмысливался в древнем Израиле как кормление божества [Anderson, 1992, 878; Scurlock, 2006, 34]. Однако, каким бы ни было происхождение некоторых формулировок и обрядов, описанных в Библии, необходимо отметить, что в библейских текстах нигде не говорится открытым текстом о том, что Бог Яхве питается жертвоприношениями. Очевидно, что подобные представления были распространены в древнеизраильской «народной» религии и, вероятно, даже среди самих жрецов. Однако библейские авторы (или редакторы библейских текстов) всячески старались избегать указаний на то, что жертвователи «кормят» божество своими приношениями. А в некоторых пророческих текстах можно найти и открытую полемику с подобными взглядами. Например, в тексте 49-го11 пророческого псалма переданы следующие слова Яхве (ст. 12–13): «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?»12 А в тексте книги пророка Исайи содержится пророчество, в котором иронически говорится о том, что Господу не нужны жертвоприношения, поскольку Он «насытился» ими: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен (древнеевр. śåḇaˁti «Я сыт») всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу». Месопотамская практика «кормления божеств» высмеивается, в свою очередь, в апокрифическом тексте «Вил и дракон» (включен в состав греческой версии библейской книги пророка Даниила).
Одной из важнейших проблем изучения ветхозаветного богословия является почти полное отсутствие указаний в тексте Библии на то, как авторы осмысливали практику жертвоприношений. Так, например, значительную часть объема книги Левит (главы 1–7) занимают различные заповеди, регламентирующие порядок совершения жертвоприношений. Последние подразделяются на пять основных типов: всесожжение (древнеевр. ˁolå ; Лев 1:1–17; 6:8–1313), хлебное приношение (древнеевр. minḥå ; Лев 2:1–16; 6:14–2314), «мирная» жертва (древнеевр. šǝlåmim ; Лев 3:1–17; 7:11–36), жертва за грех (древнеевр. ḥaṭṭaṯ ; Лев 4:1–35; 6:24–3015), жертва повинности (древнеевр. ˀåšåm ; Лев 5:1–6:716; 7:1–7). Заповеди, относящиеся к каждому типу жертв, распределены по двум разделам. В первый (Лев 1:1–6:717) раздел включены те заповеди, которые адресованы сынам Израилевым, во второй (Лев 6:8(1)–7:3818) — те, что адресованы Аарону и его сыновьям. Исследователи отмечают [Watts, 2007, 79–96], что в тексте первых семи глав книги Левит подробно описываются функции лишь двух типов жертв: за грех и повинности (их значение понятно уже из названия). Это два типа очистительных жертв, которые приносятся за невольные и вольные проступки, оскверняющие как самого человека, нуждающегося в очищении, так и все общество. Однако функции и значение жертв остальных трех типов (всесожжения, мирные, хлебные приношения) остаются в тексте книги до конца не проясненными. Причин подобного умалчивания может быть несколько: а) автор не счел нужным объяснять то, что являлось общеизвестной информацией, б) автор не счел нужным давать пояснения по каким-то иным причинам, в) автор сам не понимал значения и функций этих типов жертвоприношений в силу их архаичности. Отметим, что объяснения отсутствуют и в других книгах Библии.
Одной из немногих формулировок, которая могла бы пролить некоторый свет на богословское понимание сущности жертвоприношений в древнем Израиле, является уже упоминавшееся выражение reaḥ niḥoaḥ, которое традиционно переводят как «благоухание приятное». Хотя в тексте еврейской Библии оно встречается 43 раза, его использование ограничено [Koch, 1986, 442–445]. Оно засвидетельствовано только в текстах первых четырех книг Пятикнижия, а также в тексте книги пророка Иезекииля. В книге Левит, в частности, это выражение используется применительно ко всем типам жертв, кроме жертвы повинности (см., например, Лев 1:17: «…это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу (древнеевр. reaḥ niḥoaḥ laYHWH»)). К сожалению, точное значение его не ясно. Поскольку существительное niḥoaḥ происходит от древнееврейского корня n-w-ḥ (основные значения глагола в породе Qal — «успокаиваться, пребывать, отдыхать»), обычно считают, что выражение reaḥ niḥoaḥ обозначает умиротворяющий, успокаивающий запах [Clines, 2011, 681–682]. Если данное объяснение верно, то жертвоприношение, вероятно, рассматривалось в древнем Израиле и Иудее как средство успокоить гнев Господа и снискать Его расположение.
Необходимо отметить, что в пророческих кругах, видимо, еще во времена Первого храма распространилось критическое отношение к храмовому культу и к жертвоприношениям. Пророки делали акцент на том, что следование этическим принципам и соблюдение социальной справедливости оценивается Богом выше, чем приношение жертв. В частности, в книге пророка Осии (жил в VIII в. до Р. Х.) подчеркивается (Ос 6:6), что Бог желает «милости (древнеевр. ḥeseḏ , другой возможный перевод «верность»), а не жертвы, и Боговедения (древнеевр. daˁaṯ ˀĕlohim ) более, нежели всесож-жений». В книге Михея (Мих 6:6–8) на риторический вопрос о том, можно ли угодить Господу тысячами всесожжений животных, возлияниями потоков елея и даже принесением в жертву собственного первенца, дается следующий ответ: «О человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно (древнеевр. haṣnē a ˁ ) ходить перед Богом твоим». Подобные по содержанию пророчества можно найти также в начале книги Исайи (Ис 1:10–23). В речи, обращенной к «князьям Содомским» и «народу Гоморрскому», Господь говорит о том, что Он «пресыщен всесожжениями» и Ему нужно иное — соблюдение справедливости, помощь угнетенным, сиротам и вдовам. В заключительной главе этой книги также указывается на то, что Господь призирает на смиренных и «трепещущих перед словом» Его, а не на тех, кто приносит жертвы (Ис 66:1–4). Подобные мотивы встречаются также в Псалтири (Пс 3919, 4920, 5021, 6822, 14023). Однако в текстах некоторых псалмов заметно еще одно важное изменение в богословском осмыслении института жертвоприношения: жертвой (в ее истинном смысле) является, по мысли псалмопевцев, прославление Бога (древнеевр. toḏå «благодарение, хвала»24; Пс 49:14, 2325), молитва (древнеевр. tǝfillå ; Пс 140:226), «сокрушенный дух» (древнеевр. ru a ḥ nišbårå ; Пс 50:1927). В литературе конца эпохи Второго храма также присутствует подобное отношение к жертвоприношениям: например, в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир 35:1–3) соблюдение закона, восхваление Бога и раздача милостыни приравнивается к приношению различных жертв. Эта тенденция не миновала и автора «Письма Аристея»: в § 234 рассказывается, как в беседе с царем один из иудейских мудрецов объяснял ему, что почитание Бога заключается не в приношении даров и жертв, а в чистоте души и понимании того, что все в мире управляется Богом.
Рассмотрение текста § 170 «Письма Аристея» в контексте истории развития представлений о жертве в древнем Израиле и Иудее позволяет установить, в чем заключалась новизна учения о жертве, представленного в § 170 «Письма Аристея». Его автор принимает постулат о том, что нравственность и состояние души важнее соблюдения обрядов жертвоприношения (см. § 234), который был обоснован в пророческой древнеизраильской литературе, а также в текстах Псалтири. Но при этом он использует его не для критики, а для апологии института жертвоприношения. По его мнению, институт имеет своей целью преподать этическое наставление всем вовлеченным в ритуальный процесс. Само по себе жертвоприношение — это вполне рациональное действо, но оно предназначено не для того, чтобы каким-то образом повлиять на волю божества. Жертва играет роль символа, «знака», посредством которого дается этическое наставление. Стоит отметить, что для автора «Письма Аристея» апология жертвоприношений — это всего лишь один из элементов его обширной апологетической программы, изложенной в разделе, в который включены беседы с первосвященником Елеазаром (§§ 128–171). Краткость текста § 170 и его расположение в самом конце раздела может указывать на то, что для автора апология жертвоприношений играла второстепенную роль по сравнению с апологией других иудейских обычаев, в частности, касающихся ритуальной чистоты животных. Причина этого, по всей видимости, достаточно проста: жертвоприношения, в отличие от прочих сугубо иудейских обычаев, в древнем мире были распространены повсеместно и не нуждались в подробном обосновании. Мы не знаем, заимствовал ли автор «Письма Аристея» свои аргументы из существующей традиции, или же разработал их сам, однако его объяснение значения жертвоприношений является, по всей видимости, первым засвидетельствованным в иудейской литературе примером аллегорического толкования заповедей о жертвоприношениях.
Список литературы Апология жертвоприношения в "Письме Аристея"
- Сказание об Атрахасисе (1981) — «Когда боги подобно людям...»: Сказание об Атрахасисе / Пер. В. Афанасьевой // Я открою тебе сокровенное слово: литература Вавилона и Ассирии / Сост. В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконова. М.: Художественная литература, 1981. C. 51-75.
- Письмо Аристея (1916а) — Письмо Аристея к Филократу / Пер. В.Ф. Иваницкого // Труды Императорской Киевской духовной академии. 1916. Т. 3. Кн. 9/10. С. 1-37.
- Письмо Аристея (1916б) — Письмо Аристея к Филократу / Пер. В. Ф. Иваницкого // Труды Императорской Киевской духовной академии. 1916. Т. 3. Кн. 11/12. С. 197-225.
- Aristeas to Philocrates (1951) — Aristeas to Philocrates (Letter of Aristeas) / Ed. and transl. by M. Hadas. Eugene: Wipf & Stock, 1951.
- Lettre d'Aristée (1962) — Lettre d'Aristée à Philocrate / Introd., texte critique, trad. et notes par A. Pelletier. Paris: Cerf, 1962.
- Anderson (1992) — Anderson G. A. Sacrifice and Sacrificial Offerings (Old Testament) // Anchor Bible Dictionary / Ed. by D. N. Freedman et al. New York; London: Doubleday, 1992. Vol. 5. P. 870-886.
- Bickerman (2007) — Bickerman E.J. The Dating of Pseudo-Aristeas // Bickerman E.J. Studies in Jewish and Christian History / Ed. by A. Tropper. Leiden; Boston: Brill, 2007. Vol. 1. P. 108-133.
- Clines (2011) — Clines D.J.A. Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2011. Vol. 5.
- Heger (1999) — Heger P. The Three Biblical Altar Laws: Developments in the Sacrificial Cult in Practice and Theology; Political and Economic Background. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1999.
- Honigman (2003) — Honigman S. The Septuagint and Homeric Scholarship in Alexandria: A study in the narrative of the Letter of Aristeas. London; New York: Routledge, 2003.
- Klawans (2019) — Klawans J. Identities Masked: Sagacity, Sophistry and Pseudepigraphy in Aristeas // Journal of Ancient Judaism. 2019. Vol. 10. No. 3. P. 395-415. DOI: https://doi.org/ 10.30965/21967954-01003005.
- Koch (1986) — Koch K. nihoah // Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament / Hrsg. von G. H Botterweck, H. Ringgren, H-J. Fabry. Stuttgart; Berlin: Kolhammer, 1986. Bd. 5. S. 442-445.
- Matusova (2015) — Matusova E. The Meaning of the Letter of Aristeas: In Light of Biblical Interpretation and Grammatical Tradition, and with Reference to its Historical Context. Göttingen; Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.
- Nowicki (2014) — Nowicki S. Menu of the Gods. Mesopotamian Supernatural Powers and Their Nourishment, with Reference to Selected Literary Sources // Archiv Orientalni. 2014. Vol. 82. P. 211-224.
- Moore (2015) — Moore S. Jewish Ethnic Identity and Relations in Hellenistic Egypt: With Walls of Iron? Leiden; Boston: Brill, 2015.
- Pardee (2002) — Pardee D. Ritual and Cult at Ugarit / Ed. by T.J. Lewis. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002.
- Scurlock (2002) — Scurlock J. Animal Sacrifice in Ancient Mesopotamian Religion // A History of the Animal World in the Ancient Near East / Ed. by B.J. Collins. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2002. P. 389-403.
- Scurlock (2006) — Scurlock J. The Techniques of the Sacrifice of Animals in Ancient Israel and Ancient Mesopotamia: New Insights through Comparison, Part 1 // Andrews University Seminary Studies. 2006. Vol. 44. No. 1. P. 13-49.
- Watts (2007) — Watts J.W. Ritual and Rhetoric in Leviticus: From Sacrifice to Scripture. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007.
- Wenham (1995) — Wenham G.E. The Theology of Old Testament Sacrifice // Sacrifice in the Bible / Ed. by R.T. Beckwith & M.J. Selman. Eugene: Wipf & Stock Publ., 1995. P. 75-87.
- Wright III (2015) — Wright B.G. The Letter of Aristeas: 'Aristeas to Philocrates' or 'On the Translation of the Law of the Jews'. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2015.