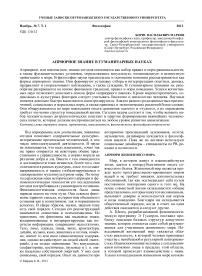Априорное знание в гуманитарных науках
Автор: Марков Борис васильевиЧ.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7 (136) т.1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Априорное, или внеопытное, знание сегодня понимается как набор правил и норм рациональности, а также фундаментальных установок, определяющих визуальную, эмоциональную и ценностную ориентацию в мире. В философии науки предпосылки и основания познания рассматриваются как формы априорного знания. Они формируют установку отбора и интерпретации опытных данных, направляют и упорядочивают наблюдение, а также суждение. В гуманитарном познании их своеобразие раскрывается на основе феноменов традиции, правил и норм поведения. Успехи когнитивных наук позволяют дополнить список форм «априорного знания». Кроме мировоззренческих, социальных и культурных факторов следует учитывать биологию и психологию человека. Научные понятия довольно быстро выявляются и контролируются. Лнализ разного рода ценностных предпочтений, социальных и моральных норм, а также правовых и экономических различий более сложен. Они обнаруживаются по мере накопления опыта сравнения «своего» и «чужого», а их оправдание требует изучения структур повседневной жизни. Сегодня задача состоит в том, чтобы выявить набор положительных антропологических констант и практик формирования важнейших человеческих качеств, которые должны воспроизводиться на любом уровне развития цивилизации.
Априорное знание, аpriority knowledge, герменевтика, повседневность, феноменология, философская антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/14750543
IDR: 14750543 | УДК: 130-32
Текст научной статьи Априорное знание в гуманитарных науках
Под априорными, или доопытными, знаниями сегодня понимают содержательные культурноисторические предпосылки человеческой, в том числе интеллектуальной деятельности. В науке не доказывается, что надо доказывать, точно так же право опирается на некоторые общие представления о справедливости, а нормы морали на различие добра и зла. Вместе с тем очевидности и достоверности тоже меняются, более того, они отличаются в разных культурах, и все это создает напряженность в нашем глобализирующемся и одновременно мультикультурном мире. Поэтому гуссерлевская идея исторического априори и феноменологическая технология его исследования сегодня востребованы в гуманитарном познании. Феноменологическая социология была лишь первым шагом на этом пути. Она освоила феномены здравого смысла, и стереотипы обыденного сознания как в когнитивном, так и нормативном аспектах. В сфере образов, звуков, запахов тоже есть свой порядок. Сегодня его реконструкцией занимаются семиотика и психосемантика. Но трактовать эти феномены как языковые знаки, воспринимаемые и интерпретируемые как носители информации, совершенно недостаточно. Тело, лицо, одежда, пища, запах, архитектура, дизайн, музыка, кино, живопись и поэзия, конечно, имеют то или иное символическое содержание, однако воздействуют на людей своей «материей», а не только значениями. Это визуальные, ольфакторные, костюмные, звуковые и т. п. знаки наделены собственной энергией. У них своя символика, свой порядок. Опыт их данности при восприятии произведений художников, поэтов, музыкантов, дизайнеров нуждается в философском анализе. Пока же их активно используют социальные дизайнеры – специалисты по PR, рекламе и политологи.
АПРИОРИ ЖИЗНЕННОГО МИРА
Мир, в котором живут и взаимодействуют люди, дается в интерсубъективном опыте совместного бытия. Жизненный мир является прежде всего пространственно-временным миром вещей и не требует никаких дополнительных обоснований, так как подтверждает себя путем постоянного повторения одного и того же. На почве совместной жизни складываются «общие представления», которые кажутся несомненным, вызывают доверие и используются как нормы и коды поведения. Благодаря им складывается общественный порядок, когда в ответ на одни действия ожидаются и следуют другие.
А. Шютц, разрабатывавший феноменологическую программу Э. Гуссерля, поставил проблему описания базовых структур донаучного знания, которое считается само собой разумеющимся для участников жизненного мира. Повседневный жизненный мир «является областью реальности, в которой человек принимает участие с неизбежной и регулярной повторяемостью. Взаимопонимание человека с соплеменниками возможно лишь в пределах этой области, в которой происходит взаимодействие с ними. Только в повседневном жизненном мире возмож- но конституирование общей среды коммуникации. Следовательно, жизненный мир повседневности есть особая реальность, свойственная лишь человеку» [7; 23]. Истолкование и конструирование жизненного мира опираются на накопленный личный опыт и усвоение опыта других людей. Благодаря этому происходит типизация феноменов и упорядочивание нового опыта. Опыт возникает благодаря созерцанию настоящего, воспоминанию прошлого и конструированию будущего. Сталкиваясь с похожей ситуацией, человек активизирует память и пытается решить проблему исходя из накопленных обобщений и предсказания возможных последствий. Это и есть образование смысловых связей. Если обобщение получает дальнейшее применение, оно становится типизацией. Типизация – это не абстрактное обобщение. Она прагматически ориентирована и состоит в том, чтобы выявить актуальное значение положения дел, опираясь на множество их значений и оценок.
Главной формой отражения типичных схем опыта является язык, в котором объективировано большинство типизаций человеческого опыта. Привычки как результаты повторения образуют естественную установку. Когда само собой разумеющийся опыт начинает давать сбои, естественная установка подвергается модификации. Но это бывает редко. Обычно мы интерпретируем мир так, каким мы его знаем. Эти интерпретации не являются теоретическими выкладками. Они всегда имеют характер инструкций к действию: если положение дел таково, то я поступаю так-то. Благодаря своей применимости эти интерпретации становятся рецептами действий.
Процесс конституирования жизненного мира, по Т. Лукману, является одновременно и конструированием его [7; 224]. Не все переживания доводятся до уровня сознания, а только те, которые совпадают с представлением о социальном порядке у того или иного субъекта. Этот процесс конституирования-конструирования социального порядка не является осознанным, и вместе с тем он формируется более или менее непроизвольно и систематически. Здравый человеческий рассудок играет здесь роль «теории». Защищая человека от сомнений, он выступает конструкцией, благодаря которой мы упорядочиваем окружающую действительность. Раскрывая механизмы формирования жизненного мира, феноменологическая социология вносит свою лепту в их гуманизацию и помогает людям в решении их повседневных проблем.
ЦЕННОСТНЫЕ АПРИОРИ
Понятие априорного знания в философской антропологии было весьма плодотворно разработано другим учеником Гуссерля – М. Шелером. Он считал: «Если и есть философская задача, решения которой наша эпоха требует как никог- да срочно, так это задача создания философской антропологии» [5; 15]. В своих ранних работах он предпринял критику формализма этики Канта с позиций феноменологии. Его вклад состоял в применении понятия априорности в сфере эмоционального сознания и в разработке «материальной» этики ценностей. По Шелеру, Кант испытывал страх перед миром, считал его хаосом, преодолеваемым синтетической деятельностью рассудка. Он постоянно говорил о постановляющей, законодательной, упорядочивающей деятельности разума. На самом деле априорные факты не конструируются, а усматриваются, находятся как изначальные предметные связи. В этике ценностные суждения «материальны» в том смысле, что даны, очевидны до всякого опыта. Даже если бы никогда не было вынесено суждение, что убийство есть зло, а благо – это благо, то это оставалось бы несомненным как предпосылка. Нравственный закон есть некий «факт» сознания, т. е. материальная этическая интуиция.
Шелер различал формальное и материальное априори. Материально априорное есть совокупность всех предложений, которые в сравнении с другими априорными предложениями, например, чистой логики, имеют значимость для специальной предметной области. При этом материальное не сводится к чувственному, а априорное к мыслимому. Предикат «чувственное» характеризует не материю, а способ данности. Неправильно думать, что то, что не дано чувственно, вообще никак не дано и не существует, что оно только примысливается. Неверно путать то, что дано, со способами данности. Шелер писал: «Apriori мы называем все те идеальные единства значения и все те положения, которые становятся самоданными в содержании непосредственного созерцания при условии воздержания от всех суждений как о субъекте, так и о предмете» [6; 226]. Сущности и их связи, данные до всякого опыта, априорны. Это не языковые и не логические феномены. Они доопытны в том смысле, что направляют и упорядочивают наблюдение, а также суждение.
Шелер различал такие свойства высказываний, как общезначимость и априорность. Бывают индивидуальные априорные сущности, которые усматривает один индивид. Поэтому неверно смешивать априоризм с субъективизмом. В восприятии нам дана природа, а не Я. Воспринимает человек, который имеет Я [6; 295]. Я – это носитель ценностей, а не их предпосылка. Отсюда отрицание психологического истолкования априорного как «врожденного». Хотя способность к априорному усмотрению может быть врожденной или определяться традицией, сами ценности не являются субъективными.
Переходя к описанию эмоциональных переживаний, Шелер показывает, что суть дела не в желаниях, а в ценностях. Например, великие люди теряют себя в ценностях. Свои волевые действия они переживают не как свои чувства, а как «благодать» свыше, понимают себя как орудия, инструменты Бога. Существует духовная жизнь, и ее эмоциональная сторона тоже определяется независимыми от телесной организации человека актами. Существует особый априорный «порядок сердца».
Ценностные аксиомы не являются модифицированными законами логики. Наряду с чистой логикой существует чистое учение о ценностях. «Феноменологию ценностей и феноменологию эмоциональной жизни следует рассматривать как совершенно самостоятельную, независимую от логики предметную и исследовательскую область» [6; 283]. Любовь и ненависть исполняются человеком, но, строго говоря, не являются «человеческими», они подчиняются априорному порядку ценностей.
В заключение можно поставить вопрос, кем сконструированы и заданы онтологические ценности? В шелеровском проекте теоморфной антропологии это считается делом Бога. Его последователи искали основания ценностных априори в культуре. Сегодня успехи когнитивных наук позволяют дополнить список методов обоснования «априорного знания» [1]. Поэтому, кроме социокультурных факторов, следует учитывать биологию и психологию человека.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ АПРИОРИ
М. Хайдеггер также противопоставлял категориальные и экзистенциальные способы освоения бытия. Взамен категориального очевидного он вводит экзистенциальное априори, такие как «забота» и другие экзистенциалы. Они напоминают понятия раннего Маркса, который считал существование современного человека неподлинным, и свою задачу видел не просто в критике капитализма с позиций обездоленного рабочего, а в поиске подлинно человеческого способа жить. Хайдеггер переописывал отчуждение в терминах бездомности, безродности и забвения бытия. Он описывал подлинное совместное бытие людей не в социальном, а в бытийственном ракурсе. В «Бытии и времени» для Dasein имеет значение именно выбор судьбы, даже если она никогда не становится судьбой народа. Судьба народа подчинена судьбе Dasein, бытие к смерти которого выбрано как основание подлинности [2; 266]. Во «Введении в метафизику» Хайдеггер заявляет, что философия касается лишь немногих избранных: «тех, кто преобразует, творя, тех, кто производит изменения» [3; 120]. Осмысляя связь между индивидом и общностью (Gemeinschaft), между отдельным человеком и народом (Volk), немецкий мыслитель использовал в качестве посредника фигуру «вождя», подлинное бытие которого видел в общности с судьбой народа.
В «Письме о гуманизме» Хайдеггер охарактеризовал состояние современности в терминах бездомности: «Бездомность становится судьбой мира» [4; 170]. Не является ли это ложным описанием современности, следствием плохой онтологии? На самом деле хайдеггеровская аналитика наличного бытия весьма поучительна. Выявленные им отрицательные экзистенциалы вполне соответствуют эпохе чрезвычайных ситуаций. Сегодня задача состоит в том, чтобы выявить набор положительных антропологических констант и практик формирования важнейших человеческих качеств, которые должны воспроизводиться на любом уровне развития цивилизации. Если мы не сохраним традиционные формы духовного производства, то будем платить за материальный комфорт душевной пустотой.
К АНАЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Изучение и описание априорных структур повседневности помогают понять реальные функции теоретических моделей и классификаций и контролировать последствия, казалось бы, формальных определений. Например, достижение идентичности на основе таких актуальных понятий, как «этнос», «нация», «народ», «класс», «гражданин», приводит к очень ответственному политическому выбору.
Реконструкция социальных априори не должна ограничиваться анализом понятий. Это было бы «диспозитивом» повседневности, способом ее теоретической легитимации и, тем самым, консервации. Прежде всего важно отделять повседневный опыт от феномена познания, где нас интересуют истина и новая информация. Отличием порядка повседневности от знания является повторяемость. Дело не столько в различии дисциплинарных и вербальных актов, как думал Фуко, сколько именно в повторении и привычке. Вербальные практики становятся важнейшей частью процессов повседневности также благодаря повторению, излишнему с точки зрения истины, которая вовсе не нуждается в том, чтобы ее знали все. Порядок образован повторяемостью, которая создает привычку.
В широком смысле общественный порядок является важнейшим условием существования людей и его нарушение ведет к созданию чрезвычайной ситуации, в которой люди с целью выживания пользуются противоправными средствами. Все это ведет к хаосу, последствия которого непредсказуемы. Общественный порядок предполагает общественное пространство как место обитания людей. Общественное пространство – это архитектурно, технически и символически обустроенная среда обитания. Прежде всего это территория, ее ландшафт, угодья, строения, а также флора, фауна и иные ресурсы. Особое значение перечисленные компоненты общественного пространства имели в традиционных обществах. В процессе цивилизации происходит перекодировка социального порядка. Общественное пространство становится все более сложным и одновременно все более уязвимым. В случае отклонения или нарушения нормы возникает беспорядок, и чем сложнее организовано общественное пространство, тем более тяжелыми могут быть последствия нарушения.
Общественные места отличаются от геометрического пространства наличием культурной символики. Рынок и храм, экономическое и приватное пространство, публичные пространства (суд, театр, университет), а также пространства развлечения и отдыха (кафе, городские парки, центры отдыха, клубы) - в каждом из них существует своя «разметка», в соответствии с которой складываются социальные нормы и коды поведения. Благодаря этому каждый знает, каким образом окружающие будут реагировать на те или иные действия. В каком-то смысле это похоже на игру, например, в шахматы. Правила поведения являются неписаными, если о них все знают. В других местах, где соблюдение порядка является особо значимым, вывешиваются инструкции. Благодаря этому общественная жизнь протекает более или менее нормально. Случаются аномалии и отклонения. Не все из них являются опасными. Некоторые подхватываются другими, становятся «модными» и таким образом происходит изменение общественного порядка. В других случая отклонения выносятся на обсуждение и проходят подчас длительную стадию общественной дискуссии.
Всякий порядок отстает от творческих потенций человека, который является не только аскетическим, но и продуктивным, экстатическим существом. Точкой перехода от старого к новому является аномалия, т. е. отклонение от нормального. Такое отклонение с точки зрения всеобъемлющего порядка выступает как проявление беспорядка, а с точки зрения гибкой, изменчивой рациональности - как переход к другому порядку. Аномалия амбивалентна: не ясно, то ли она есть нарушение порядка, то ли переход за его границы к чему-то новому. Изменения могут начаться на разных уровнях: как проявление нетипичного, маргинального, как смена норм и отказ от жестких оценок их нарушения, как потеря почвы у старых норм, как изменение их в ходе осуществления продуктивного действия.
Проблема еще и в том, что в разных культурах общественные пространства устроены по-разному. Когда люди переезжают из одной сраны в другую, они должны ориентироваться. Даже самый благонамеренный турист везет с собой «контрабанду», о существовании которой он не подозревает. Это - груз его установок и ожиданий, а также сложные символические машины восприятия и понимания окружающей действительности. Если речь идет о научных по- нятиях, то они довольно быстро выявляются и контролируются. Гораздо сложнее обстоят дела с анализом разного рода ценностных предпочтений, социальных и моральных норм, а также правовых и экономических различий. Они обнаруживаются по мере накопления опыта сравнения «своего» и «чужого», а их оправдание требует достаточно трудоемкого изучения структур повседневной жизни той или иной посещаемой страны.
Ссылка на окружающий мир в общем есть то, что обычно называют «ориентированием». Философия тематизирует его всеобщие структуры [8]. Остается вопрос о единичном: какой функциональной системой, до какой степени интегрируется и ангажируется отдельный человек и какие представления о нормах направляют его при этом. Здесь находится область этического ориентирования. Ориентирование в рамках системы не есть нечто непоколебимое и постоянное во времени. Нужно ориентироваться в каждой новой ситуации, не только пространственно на местности, но также в коммуникации с другими и, наконец, входя в курс любого дела. Это предполагает редукцию сложного к простому, непонятного к понятному.
Представления о морали являются опорными пунктами ориентирования. Они способствуют тому, что индивидуальное ориентирование стабилизируется и становится благодаря этому идентифицируемым для других систем. Поскольку при этом различается только «добро» и «зло», системы одновременно сокращают сложность действующих ситуаций и позволяют действовать согласно категорическому императиву: «Поступай так!» Неприятие во внимание обстоятельств и последствий означает нарушение способности к подсоединению. Если это произойдет, необходимо срочно восстановить единство. Если возникает спор, то можно объяснять поступок задним числом и постараться исправить досадные последствия, можно даже дойти до раскаяния. Наблюдение за реакцией других становится опорным пунктом для рефлексии своего поведения.
Анализ попыток концептуализации повседневности позволяет сделать вывод, что современность - это «слоеный пирог», где новое и традиционное переплетены. Поэтому вместо попыток построения универсальных моделей следует заняться реконструкцией многообразных типов порядка в кажущемся нерациональным устройстве современного мира. Критики современного общества пишут о новых формах отчуждения, о нарастании конформизма и тотального одиночества. Однако анализ повседневных форм существования обнаруживает новые формы общения, соседства, дружественности, словом, всего того, что Ф. Тённис называл «общностью», противопоставляя его «обществу» как системе институтов.
АPRIORITY KNOWLEDGE IN HUMANITIES
Список литературы Априорное знание в гуманитарных науках
- Волков А. В. Научное познание в контексте эволюционной эпистемологии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2012. № 1 (122). С. 88-94.
- Heidegger M. Sein und Zeit. F. W. von Hermann. Frankfurt am Main, 1977. 451 s.
- Heidegger M. Einfuehrung in Metaphusik. Heidegger M. Vorlesungen 1923-1944. V. Klostermann. Frankfurt am Main, 1980. 230 s.
- Heidegger M. Brief ueber den «Humanismus» Heidegger M. Wegmarken. V. Klostermann. Frankfurt am Main, 1967. 145-194 s.
- Scheler M. Mensch und Geschichte. Scheler M. Philosophiesche Weltanschauung. Fr. Cohen, Bonn, 1929. S. 15-46.
- Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und material Wertethik. Scheler M. Gesammelte Werke. Bd. 9. A. Francke, Bern und Muenchen, 1960. 533 s.
- Schuetz A., Luckmann T. Strukturen der Lebenswelt. Bd. 1. Neuwied, 1975. 334 p.
- Stegmaier W. Philosophie der Orientierung. De Gruyter. Berlin; New York, 2008. 804 s.