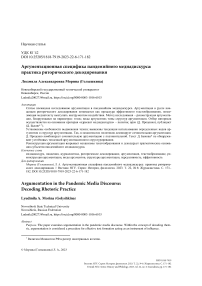Аргументационная специфика пандемийного медиадискурса: практика риторического декодирования
Автор: Морина Голышкина Л.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Медиатекст и медиадискурс
Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию аргументации в пандемийном медиадискурсе. Аргументация в русле концепции риторического декодирования понимается как процедура эффективного текстообразования, позволяющая медиатексту выступать инструментом воздействия. Метод исследования - реконструкция аргументации, базирующаяся на параметрах: тезис; виды аргументов; типы структур аргументации. Отбор материала осуществляется на основании критерия «адресант медиадискурса» - политик, врач (Д. Проценко), публицист (Д. Быков).Установлены особенности выдвижения тезиса; выявлены тенденции использования определенных видов аргументов и структур аргументации. Так, в медиатекстах политиков доминирует сочинительная аргументация. Д. Проценко комбинирует сочинительную аргументацию с подчинительной. Текст Д. Быкова не обнаруживает устойчивых тенденций аргументационного структурирования.Реконструкция аргументации вскрывает механизмы текстообразования и декодирует прагматические основания субъектов пандемийного медиадискурса.
Медиадискурс, пандемия, журналистика, риторическое декодирование, аргументация, текстообразование, реконструкция аргументации, виды аргументов, структуры аргументации, персуазивность, эффективность
Короткий адрес: https://sciup.org/147241579
IDR: 147241579 | УДК: 81?42 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-6-171-182
Текст научной статьи Аргументационная специфика пандемийного медиадискурса: практика риторического декодирования
Актуальность настоящего исследования обусловлена недавней глобальной ситуацией, связанной с COVID-19: пандемия изменила привычный жизненный уклад социума, заставила переосмыслить общечеловеческие ценности, повлияла на мировоззрение человечества, что естественным образом получило отражение в языковой картине мира. Как отмечает М. А. Кронгауз, «пандемия и связанный с ней карантин занимают сравнительно небольшое время… но по влиянию на жизнь, язык и коммуникацию это фактически отдельная эпоха» [Кронгауз, 2020, с. 736].
Реакция на актуальную речевую ситуацию рефлексирующей части населения – от филологов и журналистов до просто неравнодушных носителей языка – проявилась в активном обсуждении появившихся понятий и соответствующих новых слов и выражений, в переосмыслении старых, в оценке захлестнувшего медийное пространство речетворчества. Страницы как отечественных, так и зарубежных медиа запестрели материалами лингвопросветительской направленности, например: «Словарь эпохи коронавируса: “Ковидиоты на самоизоляции зачали корониалов, зумились и оформили ковидиворс”» («Комсомольская правда», 20.05.2020) 2, «Языковые итоги года: ирония и пандемия» (ТАСС, 02.12.2020) 3, «Coronavirus has led to an explosion of new words and phrases – and that helps us cope» (The Conversation, 28.04.2020) 4.
Коронавирусная пандемия выступила катализатором формирования особого тематического дискурса, актуального для общества в рамках определенного временного отрезка, называемого исследователями «коронавирусный дискурс» [Северская, 2020], «дискурс эпохи коронавируса» [Башкова, 2020], «дискурс (о) пандемии COVID-19» [Никитина, Гудкова, 2020], «пандемический дискурс» [Феофанов, 2020], «пандемийный дискурс» [Козловская, 2020]. Однако в условиях внедряемой сегодня цифровизации, тотальной гаджетизации и активации самых разных форм онлайн-коммуникации корректнее говорить, с нашей точки зрения, о явлении пандемийного медиадискурса .
Новизна и научная значимость исследования заключаются в рассмотрении пандемийного медиадискурса в качестве онтологически обоснованного объекта исследования, динамично порождаемого внешними вызовами. Формирующие дискурс пандемийного периода явления и активные процессы оказались в той или иной степени оперативно описанными уже в 2020 г. в рамках системно-структурного подхода 5. Однако медиадискурсологические аспекты пан-демийной речевой практики остаются открытой областью исследовательских изысканий. Более того, когда в мире наблюдается «все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» [Baudrillard, 1981, p. 119], особый интерес вызывают эффекты, создаваемые медиатекстами в кризисные для цивилизации периоды.
Предметом настоящего исследования выступает аргументация как направленная на «сближение сознаний» (Х. Перельман) процедура эффективного тексто- и смыслообразова-ния, позволяющая медиатексту выступать в качестве инструмента воздействия.
Аргументация, по мысли Ф. Х. ван Еемерена, ведущего специалиста амстердамской школы теории аргументации, «охватывает не только процесс обоснования точки зрения, но и тот текст (будь он длинным или коротким), который возникает в результате этого процесса» [Еемерен, 2006, с. 14]. Это положение представляется чрезвычайно значимым, поскольку поддерживает обосновываемое нами понимание аргументации как продуктивной текстообразующей процедуры.
Аргументация – особый способ воздействия на сознание и поведение человека, который отличается от приказа, угрозы, внушения представлением о реципиенте как о рациональном субъекте, обладающем свободой выбора. В связи с этим «аргументация… предполагая внутреннюю независимость человека, всегда содержит в себе риск провала, так же как игра содержит риск поражения» [Алексеев, 2005, с. 449]. Соответственно, диагностика эффективности / неэффективности аргументации становится необходимой процедурой осмысления медийной практики в целом.
Цель настоящего исследования состоит в аналитическом описании аргументационной специфики медиатекстов как составляющих пандемийного медиадискурса в фокусе развиваемой нами концепции риторического декодирования.
Риторическое декодирование текста (далее – РДТ) направлено на реконструирование текстообразующего замысла субъекта речи в свете категории коммуникативно-речевой эффективности 6. «Распаковка» механизмов создания медиатекста в рамках РДТ осуществляется как поиск соответствий между способами и средствами воплощения текстообразующего замысла и параметрами текстовой эффективности. В систему последних, наряду с осознанностью, актуальностью, акциональностью, публичностью, диалогичностью, входит аргументированность как основание персуазивности текста [Голышкина, 2021, с. 284]. При этом под персуазивностью понимают не просто речевое воздействие, но «изменение определенной позиции адресата с целью убеждения последнего принять точку зрения отправителя сообщения» [Хутыз, Колчевская, 2018, с. 391].
Методом данного исследования выступает реконструкция аргументации [Еemeren et al., 1993], которая при реконструировании рассуждения руководствуется принципом выделения «только тех элементов, которые обладают релевантностью в теоретической концепции исследования и отвечают целям его анализа» [Реес, 2006, с. 199].
Релевантными для практики РДТ являются параметры аргументации, позволяющие оценить ее эффективность, а именно:
-
1) особенности предъявления тезиса, способствующие его принятию аудиторией;
-
2) виды аргументов, обусловливающие персуазивный потенциал текста;
-
3) типы структур аргументации, организующие текст.
Отбор материала исследования обусловлен положением о том, что аргументационный замысел и вербальные средства его воплощения определяет субъект речи. К наиболее активным адресантам пандемийных медиатекстов относятся сегодня политики и журналисты-публицисты. Но в первую очередь образ автора пандемийного медиадискурса формируют специалисты – врачи и ученые естественнонаучного профиля. Не случайно медийная практика 2020–2022 гг. демонстрирует всплеск интереса к естественнонаучному контенту и активизацию просмотров видеолекций и видеоматериалов с участием известных ученых-биологов и вирусологов, таких как К. Северинов, М. Гельфанд, С. Нетёсов, А. Баранова и др.
Исходя из критерия «адресант медиадискурса», основным материалом исследования выступают: стенограмма заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ (участники – М. Мишустин, С. Собянин, М. Мурашко, А. Попова, Р. Минниханов, С. Ситников) от 11.01.2022; интервью Дениса Проценко, главного врача ГКБ № 40, главного внештатного специалиста по анестезиологии-реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, Российской газете от 02.12.2021; текст публикации Д. Быкова* «Многим пандемия, как война, вернула нормальную этику» в независимом общественно-политическом издании «Собеседник» от 30.03.2021.
Результаты и обсуждение1. Особенности предъявления тезиса
Целью аргументации является принятие тезиса – высказывания, выступающего содержательно-концептуальным стержнем текста, обеспечивающим его смысловое единство.
По мнению исследователей, при формулировании тезиса субъект речи «может пойти двумя путями: 1) консервативный путь: подтверждается то, что ожидает услышать аудитория <…> – порождает ортодоксальный тезис; 2) творческий путь: переосмысливаются известные факты и предлагается новый путь решения проблемы – порождает парадоксальный тезис» [Анисимова, Гимпельсон, 2004, с. 49].
В тексте стенограммы заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией тезис задает, естественно, председатель Правительства РФ М. Мишустин сразу после приветствия участникам: Идет борьба с коронавирусом 7 .
Здесь тезис представлен бытийным (экзистенциальным) высказыванием, утверждающим, что нечто имеет место. Стертая метафоричность высказывания на фоне массового, уже поднадоевшего населению медиатиражирования образа войны с коронавирусом 8 создает эффект восприятия данного тезиса как общепринятой данности. Председатель Правительства выбирает консервативный путь и выдвигает ортодоксальный тезис. Хотя очевидно, что сама коммуникативная ситуация, характеризующаяся высокой степенью официализации, не способствует демонстрации креативности.
Тезисом текста интервью Д. Проценко становится вынесенное в заглавие высказывание: Единственный путь избежать и пятой, и шестой волны – вакцинация 9. По сути, перед нами речевой акт предупреждения, который можно определить как прескриптивный тезис, кото- рый позволяет субъекту речи как опытному медицинскому специалисту диктовать обществу необходимые правила поведения.
В тексте Д. Быкова* тезис представлен нестандартно – путем расширения структуры суждения цитатой, принадлежащей авторитетной для мировой культуры и отечественной истории личности: Проявилась та же закономерность, что и в любом российском историческом опыте; сформулировал ее когда-то еще Солженицын: «Даже самые емкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую ткнулись собственным рылом» 10. Такой тактический шаг демонстрирует выбор творческого пути предъявления тезиса, квалифицируемого в качестве парадоксального.
Однако очевидно, что креативный подход Д. Быкова* адекватно воспринимается и корректно декодируется не массовой, а подготовленной аудиторией, готовой к аналогическому способу осмысления ситуации, а также обладающей достаточной эрудицией для понимания прецедентных феноменов.
2. Виды аргументов
Определение этого критерия заставляет обратиться к проблеме разграничения логической и риторической аргументации. Логическая аргументация зиждется на приоритете доказательства над внелогическими компонентами: «Если имеется доказательство, которое как таковое и воспринято, то аргументация, имеющая в своем составе кроме чисто дискурсивнологических еще и другие компоненты, не нужна» [Асатрян, 1986, с. 61].
Противоположных взглядов на процесс аргументации придерживаются представители неориторики, считающие, что «далеко не всегда, когда пытаются склонить на свою сторону, прибегают к логически связным аргументам: иногда достаточно просто дать понять, что позиция, в пользу которой выступает пропонент, лежит в интересах адресата; защищая эти интересы, можно еще воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга, на моральных установках» [Демьянков, 1989, с. 13].
Таким образом, риторическая аргументация рассматривается как синтез рационального и иррационального, объективного и эмоционального, универсального и неуниверсального, контекстуального.
Систематизация и классифицирование аргументов – традиционная проблема неоритори-ческих исследований (см. [Анисимова, Гимпельсон, 2004; Ивин, 2003; Москвин, 2008; Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987] и др.). Корректность выбора того или иного вида аргумента с позиции аксиологических приоритетов аудитории и уместность их использования в определенной коммуникативной ситуации обусловливают эффективность текста.
Так, М. Мишустин, открывая в качестве модератора заседание Координационного совета, прибегает к универсальным аргументам.
М. Мишустин : Значимую роль играет своевременное тестирование (Аргумент 1) . Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей (Аргумент 2) . <…> В стране идёт масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта (Разрыв аргумента 3) – и за этим внимательно следит Президент (Аргумент 4 (вставка)) – могли бесплатно сделать прививку (Аргумент 3) . Если пришло время, то и повторно (Аргумент 5) .
Такие доводы квалифицируют как универсальные системные аргументы, которые представляют собой «обоснование утверждения путем включения его в качестве составного элемента в кажущуюся хорошо обоснованной систему утверждений» [Ивин, 2003, с. 79]. Здесь премьер-министр описывает текущее положение дел как реализацию общепринятой системы мер. Такие аргументы имеют десемантизированный характер, используются в функции создания преамбулы для дальнейшего предметного разговора.
В политическом медиадискурсе доминируют рациональные аргументы, представленные статистическими данными, свидетельствующими о динамике заболеваемости, результатах лечения, количестве вакцинированных и т. п.
М. Мурашко : Мы держим 30 % коек сегодня в резерве, с возможностью разворачивания. Ранее, в октябре, мы разворачивали более 300 тыс. коек. Сегодня у нас на госпитализации находятся 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии, почти 3,8 тысячи пациентов – на искусственной вентиляции легких.
-
А. Попова : По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что ниже на 19,4 %, чем на финальной неделе ушедшего года. <…>
Р. Минниханов : Мы продолжаем вакцинацию населения республики против ковида, в медицинских организациях в наличии 447 тыс. доз вакцины. План вакцинации составляет 2 437 278 человек, это 80 % от численности населения старше 18 лет. Это федеральные цифры. Первый компонент получили 2 298 642 жителя республики, это 94,3 %. Вторым компонентом привито 1 863 587 человек. Повторную вакцинацию получили 140 тысяч человек.
Статистические данные традиционно считаются сильным аргументом, вызывающим доверие аудитории. Но обилие статистики препятствует оперативному восприятию информации, ее критической оценке и аналитическому сопоставлению сведений, что формирует зону риторических рисков медиатекста. В политическом пандемийном медиадискурсе на первый план выходит логическая аргументация, основанная на фактуальной информации, что создает эффект увлеченности речевым жанром отчета.
Д. Проценко тоже использует статистические данные, что естественно для интервьюируемого в ситуации ответа на открытый вопрос: Сколько сейчас пациентов с коронавирусом в Коммунарке?
Д. Проценко : В настоящий момент у нас лечатся 934 пациента. 237 из них - в отделении реанимации и интенсивной терапии, 111 находятся на ИВЛ. Дыхание остальных поддерживается по большей части высокопоточным кислородом. Всего за прошедшие год и девять месяцев пандемии мы пролечили более 56 тысяч больных .
Однако Д. Проценко не превращает представление количественной информации в отчет, а умело трансформирует его в своего рода рассказ о типизированном опыте, доверие к которому поддерживается статусом действующего врача.
Д. Проценко : Главное отличие первой волны от второй и последующих - более быстрое, я бы даже сказал, стремительное развитие заболевания. Очень быстрая прогрессия повреждения легких. Вот только что поступил пациент с 25 процентами поражения легочной ткани, а буквально через 48 часов у него может быть повреждено уже 80–90 процентов легких. И это на фоне лечения!
Здесь Д. Проценко использует эмпирические аргументы, а именно аргумент-пример, обосновывающий точку зрения посредством апелляции к частному случаю. Как отмечают Х. Перельман и Л. Олбрехт-Тытека, «в естественных науках частные случаи используются... как примеры, которые должны привести к формулировке некоего закона или к определению некоей структуры...» [Перельман, Олбрехт-Тытека, 1987, с. 208]. С помощью примера, демонстрирующего отрицательную динамику состояния условного пациента, Д. Проценко не просто убеждает в необратимости заболевания, но превращает единичное в тенденциозное. Очевидно, что у приведенного Д. Проценко аргумента-примера персуазивный эффект гораздо выше, чем у статистических сводок, транслируемых политиками.
Другая особенность аргументации Д. Проценко состоит в эксплуатации аргументов-иллюстраций.
Д. Проценко : ...Вопрос о наличии того или иного препарата достаточно сложный (Подтезис).
Я убедился в этом, когда еще в рамках своей деятельности на кафедре анестезиологии и реаниматологии занимался антимикробной терапией. Как-то посчастливилось побывать в одной из зарубежных лабораторий, которые синтезируют антибиотики. Узнал, что химики ежедневно генерируют тысячу молекул в надежде, что они станут спасительным средством для той или иной болезни. Но до клинической стадии испытаний из этой тысячи доходит только одна молекула (Аргумент-иллюстрация) . <...>
Х. Перельман и Л. Олбрехт-Тытека видят назначение иллюстрации в возможности «укрепить убежденность слушающего в правильности уже известного и принятого правила путем приведения частных случаев, которые проясняют общее изложение, демонстрируют его значение с помощью целого ряда возможных применений, усиливают эффект его присутствия в сознании слушающего» [1987, с. 214].
Рассмотренная эмпирическая база позволяет утверждать, что иллюстративные аргументы наделяют текст объяснительным потенциалом, способствуя реализации просветительской миссии врача, чрезвычайно значимой в ситуации социальной напряженности и массового мифотворчества.
Анализируемый текст Д. Быкова* характеризуется отсутствием статистических данных. Автор не апеллирует к случаям, пережитым лично, но пытается осмыслить накопившийся за период пандемии коллективный опыт путем выдвижения аргументов, дифференцирующих типовые жизненные ситуации.
Д. Быков* : Переболевшие получили горький новый опыт, стали внимательнее относиться к чужим проблемам и собственным симптомам, уважают медиков <...>. Те, кто потерял родственников, научились ценить любые проявления милосердия и заботы. Те, кто работал волонтером, с радостью убедились, что среди всеобщего растления еще возможно быть людьми, и это гораздо приятней, чем сплачиваться в ненависти. Многим пандемия, как война, вернула нормальную этику - правила взаимопомощи, а не доминирования, солидарности, а не науськивания. <…> многие освоили Zoom, оценили преимущества заочного обучения, многим вообще стало труднее, чем прежде, отрываться от дивана...
Эмпирические аргументы не оказывали бы здесь должного воздействия, если бы не имели выраженного индивидуально-авторского языкового воплощения, не сопровождались бы меткими комментариями, эксплицирующими авторскую модальность.
3. Структуры аргументации
Оценка качества аргументации невозможна без обращения к анализу структур аргументации, который диктует необходимость «не только четкого осознания отдельных аргументов, но также и понимания связи между этими аргументами» [Снук Хенкеманс, 2006, с. 123]. Осмысление типа связи сложной аргументации позволяет прогнозировать оценку аргументов реципиентами, шире - эффективность текста.
Выделяют три основных типа структуры аргументации : подчинительную, сочинительную и множественную [Там же].
В медиатекстах политиков доминирует сочинительная аргументация - связанное рассуждение, где «каждый из приводимых доводов непосредственно соотносится с исходной точкой зрения, все доводы взаимозависимы и только вместе эффективно поддерживают эту точку зрения» [Там же].
Так, мэр столицы, отвечая на вопрос М. Мишустина о том, как Москва прошла новогодние праздники , моделирует аргументационный комплекс, используя сочинительную аргументацию.
-
С. Собянин : Праздничные дни в Москве прошли более или менее спокойно (Подтезис), все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы (Аргумент 1). Какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось (Аргумент 2). Госпитализации шли в рамках 600-750 пациентов в сутки, что, в общем, для Москвы означает невысокий уровень (Аргумент 3).
Ответ на такой вопрос не может быть сформирован единичной аргументацией, здесь уместен только комплекс взаимозависимых доводов.
Сочинительные структуры частотны и в выступлениях Р. Минниханова, А. Поповой, С. Ситникова. Потребность в такой аргументации возникает, когда субъекту политического медиадискурса необходимо показать весь спектр своих должностных достижений и возможностей, обозначить горизонты реализованного и реализуемого.
Подчинительная аргументация, представляющая собой последовательное рассуждение, где «один довод поддерживает другой» [Там же], оказывается востребованной в случаях раз- вернутого представления референта, например, программы углубленной диспансеризации, утвержденной Правительством РФ.
-
М. Мишустин : Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанёс здоровью (Подтезис). Поэтому с 1 июля началась программа углублённой диспансеризации перенёсших ковид (Аргумент 1). На её проведение в текущем году предусмотрено 8 млрд рублей (Аргумент 2). <^> Углублённая диспансеризация и реабилитация входят в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую Правительство утвердило в конце декабря (Аргумент 3). <_>
Интервью Д. Проценко демонстрирует синтез структур аргументации, усложняющий текстовую организацию. Так, мы наблюдаем комбинаторику сочинительной и подчинительной аргументации, что позволяет говорящему перейти от фактуальной констатации к объяснению сущности конкретного явления.
Д. Проценко : Москва вообще дала стране яркий пример умения работать в сложившихся обстоятельствах (Подтезис). <...> В столице же как только появились вакцины, задействовали под них самые большие и самые лучшие площадки, какие только можно представить: Лужники, ГУМ, Гостиный Двор, театр оперы «Геликон», множество торговых центров. Заслуживает внимания и еще один из инструментов, который стал широко использоваться в пандемию в Москве, - консультирование с помощью телемедицинского центра (Сочинительная аргументация). На таких виртуальных консилиумах у нас обсуждаются самые тяжелые случаи. Врач в «красной зоне», рядом с пациентом. Все участники консилиума не просто общаются с ними, но и видят на мониторах все показатели исследований КТ, лабораторных анализов. <^> (Подчинительная аргументация).
В анализируемом тексте Д. Быкова* выявлена так называемая множественная аргументация, демонстрирующая конвергентное рассуждение, где «каждый аргумент самостоятельно доказывает (до известной степени) точку зрения» [Снук Хенкеманс, 2006, с. 123-124].
Д. Быков* : Проявилась та же закономерность, что и в любом российском историческом опыте <^> (Тезис). Если посадили не тебя, а соседа - может, и не было никаких репрессий (Аргумент 1). Если ты лично процветал в девяностые, то девяностые были отличным временем (Аргумент 2). Если ты и родня не переболели, то и нет никакого ковида, все это способ надавить на Европу или Китай, закрыть границы и т. д. <^> (Аргумент 3).
Здесь фактивные условные конструкции и синтаксический параллелизм актуализируют аналогический способ осмысления действительности.
В другом аргументационном комплексе отмечаем осложнение подчинительной аргументации, или последовательного рассуждения, нарочитой демонстрацией причинно-следственных отношений.
Д. Быков* : ...Те, кого пандемия не затронула никак, на нее и не отреагировали (Подтезис). <^> Все вещи, которые пандемия отменила - заграница, театры, концерты, рестораны, дружеское общение, -интересны сравнительно небольшой части россиян, ибо три четверти населения никогда не имели загранпаспорта, а четверть не бывали в театре. Думаю, и в рестораны ходят не более трети (Причинноследственная аргументация). Так что никакого влияния на общество - ни нравственного, ни социального - вирус не оказал вовсе (Вывод).
Осознавая категоричность и некоторую парадоксальность такого вывода, Д. Быков* делает корректирующее уточнение: Если не считать тех двух миллионов, которые переболели, и их родственников .
И далее автор формулирует относящееся уже ко всему тексту заключение гипотетического характера, имплицирующее исторический и политический контексты: И отсюда печальный вывод: осуществить в России какие-либо перемены можно будет лишь тогда, когда текущие ее проблемы коснутся как минимум половины населения .
Заключение
Проведенное исследование, основанное на триаде «тезис - аргументы - структуры аргументации», выявляет следующие особенности аргументации пандемийного медиадискурса, определяемые и регулируемые категорией адресанта сообщения.
-
1. Предъявление тезиса осуществляется субъектами речи как консервативным, так и креативным путем. Медиатексты о пандемии свидетельствуют о возможностях выдвижения ортодоксального, прескриптивного и парадоксального тезисов. При этом политики демонстрируют приверженность ортодоксальному тезису, врач – прескриптивному, публицист – парадоксальному.
-
2. Видовая специфика аргументов, функционирующих в исследуемом медиадискурсе, также балансирует по шкале «консервативный / креативный». Так, политики отдают предпочтение универсальным системным аргументам и / или рациональным аргументам, представленным статистическими данными. Такой консервативный путь селекции аргументов ведет к десемантизации сообщения, формирует зону риторических рисков текста. Более того, злоупотребление статистикой, традиционно считающейся сильным аргументом, топит реципиентов в информационном потоке, делает их неспособными мобильно воспринимать и корректно осмысливать сведения.
-
3. Все три типа структур аргументации – сочинительная, подчинительная и множественная – получают воплощение в пандемийном медиадискурсе. Так, в медиатекстах политиков доминирует сочинительная аргументация, позволяющая наиболее репрезентативно поддерживать точку зрения.
Воздействующий потенциал текста Д. Проценко, медийного представителя профессионального медицинского сообщества, формируется путем использования персональной эмпирической аргументации, где активно функционируют аргументы-примеры и аргументы-иллюстрации, отсылающие к врачебной практике, что работает на формирование доверия аудитории.
Д. Быков*, напротив, опирается на коллективную эмпирическую аргументацию, нацеленную на две референтные группы – «переболевшие и получившие горький опыт» и «те, кого пандемия не затронула никак».
Д. Проценко тяготеет к использованию синтетических структур аргументации, где сочинительная сопрягается с подчинительной, что создает возможности перехода от фактуальной констатации к объяснению того или иного пандемийного явления или процесса.
В тексте Д. Быкова* не обнаруживается какой-либо устойчивой тенденции аргументационного структурирования. Однако выявленные множественная аргументация, а также подчинительная, осложненная экспликацией причинно-следственных отношений, свидетельствуют о стремлении к нетривиальному текстообразованию.
Реконструкция аргументации, входящая в систему методов РДТ и выявляющая механизмы эффективного текстообразования, позволяет декодировать прагматические основания субъектов пандемийного медиадискурса. Так, политики реализуют в аргументации декларационно-презентационную интенцию; Д. Проценко как представитель врачебного сообщества демонстрирует просветительскую интенциональность; Д. Быков* как публицист – рефлексивно-критическую.
Очевидно, что сделанные наблюдения требуют дальнейшей разработки, учитывающей жанровую специфику медиатекстов, коммуникативный и социальный статусы субъектов речи, меняющийся ситуативный контекст, тип аудитории (которая может и вовсе не нуждаться в креативном осмыслении действительности) и т. п.
Представленные результаты намечают перспективы комплексных неориторических исследований, устанавливающих связи между качеством аргументации медиатекстов и динамикой социальных изменений.
Список литературы Аргументационная специфика пандемийного медиадискурса: практика риторического декодирования
- Алексеев А. П. Аргументация // Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник / Под ред. М. И. Панова. М.: КРПА Олимп, 2005. С. 448-450.
- Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика: Учеб. пособие. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2004. 432 с.
- Асатрян М. В. Экстраполяция и аргументация // Философские проблемы аргументации. Ереван, 1986. С. 61.
- Башкова И. В. COVID-19 - Ковид: русификация интернационализма // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 6 (85). С. 689-692. DOI 10.24412/1991-5500-2020-685-689-692
- Голышкина Л. А. Сверхфразовая организация риторического текста // Сибирский филологический журнал. 2021. № 2. С. 283-296. DOI 10.17223/18137083/75/20
- Демьянков В. З. Эффективность аргументации как речевого воздействия // Проблемы эффективности речевой коммуникации. М.: ИНИОН АН СССР, 1989. С. 13-40.
- Еемерен Ф. Х. ван. Современное состояние теории аргументации // Важнейшие концепции теории аргументации. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2006. С. 14-33.
- Ивин А. А. Риторика: искусство убеждать: Учеб. пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 304 с.
- Козловская Н. В. «Коронавирус: бой продолжается.» (метафора войны в пандемийном дискурсе) // Новые слова и словари новых слов. 2020: Сб. науч. ст. / Отв. ред. Н. В. Козловская. СПб.: ИЛИ РАН. 2020. С. 101-109.
- Кронгауз М. А. Screenlife в эпоху карантина // Коммуникативные исследования. 2020. № 4. С. 735-744. DOI 10.24147/2413-6182.2020.7(4).735-744
- Москвин В. П. Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 637 с.
- Никитина О. А., Гудкова О. А. Контаминация как проявление игрового словотворчества в дискурсе о пандемии COVID-19 (на материале новообразований немецкого языка) // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2020. № 4 (39). С. 123132. DOI 10.36622/AQMPJ.2020.39.4.017
- Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации» // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 207-264.
- Реес М. А. ван. Интерпретация и реконструкция аргументации // Важнейшие концепции теории аргументации. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2006. С. 198-238.
- Северская О. И. Ковидиоты на карантикулах: коронавирусный словарь как диагностическое поле актуальных дискурсивных практик // Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7, № 4. С. 887-906. DOI 10.24147/2413-6182.2020.7(4).887-906
- Снук Хенкеманс A. Ф. Структуры аргументации // Важнейшие концепции теории аргументации. СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2006. С. 123-161.
- Феофанов К. А. Тенденции международного развития в условиях пандемии // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 6. С. 7-21. DOI 10.34823/SGZ.2020.5.51474
- Хутыз И. П., Колчевская В. А. Персуазивность: специфика феномена в некоторых типах институционального дискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 2 (80), ч. 2. C. 391-394.
- Baudrillard J. Simulacres et simulation. Paris, Galile e, 1981, 235 p.
- Eemeren F. H. van, Grootendorst R., Jackson S., Jacobs S. Reconstructing Argumentative Discourse. Tuscaloosa, Uni. of Alabama Press, 1993, 197 p.