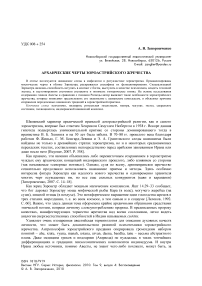Архаические черты зороастрийского жречества
Автор: Запорожченко Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются шаманские следы в мифологии и ритуалистике зороастризма. Проанализированы мистические черты в облике Зороастра, раскрывается специфика их функционирования. Специализацией Зороастра являлась способность вступать в контакт с богом, выступать в качестве психопомпа, владеть техникой экстаза, в одухотворенном состоянии составлять и понимать эзотерические гимны. На основе исследования содержания гимнов Авесты и сравнения с гимнами Ригведы автор выявляет такие особенности зороастрийского жречества, которые позволяют предположить его знакомство с шаманским комплексом, и объясняет причины сохранения определенных шаманских традиций в зороастрийской практике.
Психопомп, индоарии, ритуальная экзальтация, мантра, магупат, экстаз, сакральное состояние, галлюциноген, индоиранский шаманский комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737278
IDR: 14737278 | УДК: 008
Текст научной статьи Архаические черты зороастрийского жречества
Шаманский характер архаической иранской дозороастрийской религии, как и самого зороастризма, впервые был отмечен Хенриком Самуэлем Нюбергом в 1938 г. Вскоре данная гипотеза подверглась уничижительной критике со стороны доминировавшего тогда в иранистике В. Б. Хенинга и на 50 лет была забыта. В 70–80 гг. прошлого века благодаря работам Ф. Жинью, Г. М. Бонгард-Левина и Э. А. Грантовского следы шаманизма были найдены не только в древнейших стратах зороастризма, но и в некоторых средневековых персидских текстах, составленных непосредственно перед арабским завоеванием Ирана или даже после него [Buyener, 2007. P. 358].
Как правило, эти явления объяснялись либо пережиточным сохранением в зороастризме чуждых ему архаических концепций индоиранского прошлого, либо влиянием со стороны (так называемые «северные мотивы»). Однако, судя по всему, древнеиранское жречество сознательно продолжало использовать шаманские приемы и методы. Здесь особенно интересна фигура Зороастра как идеолога нового жречества и одновременно хранителя многих черт осуждаемых им, но все еще сильных конкурентов (кави и карапанов) [Запорожченко, 2007. С. 14–18].
Как жрец Зороастр обладает мощным магическим комплексом. Яшт 14.29–33 сообщает, что бог даровал Зороастру мощь мифической рыбы Кара (в воде), могучего жеребца (на суше), хищной птицы (в воздухе). Это метафорическое выражение идеи господства жрецов в трех стихиях мироздания, т. е. во всем космосе, а тем самым и в социуме [Лелеков, 1992. С. 60]. Важно, что здесь данная тема оформлена крайне архаичными образными средствами эпической поэзии, вопреки личному словоупотреблению пророка. В предписанных пророку качествах, манифестирующих торжество жречества над всеми сословиями, легко видеть аналогии сверхъестественных способностей в Индии называемых сиддхи .
Удивляет очень изощренная авестийская терминология для описания духовных качеств личности, что может быть доказательством развитой психотехники зороастрийского жречества. Антропософия зороастрийского предания оперировала громоздким набором понятий – ahu, xratu, vyana, manah, ustana, urvan, daena, baodha, tanu – весьма абстрактного плана. Даже медицина греков и индоариев (Аюрведа) не нуждалась в таких тончайших дифференциациях и градациях психосоматических компонентов индивидуума. И внутри Ирана любые источники, помимо Авесты, не знают чего-либо похожего, может быть, за
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © А. В. Запорожченко, 2010
исключением одного-двух терминов. Убедительно соотнесение термина xvafna из Ясны 30.3 с экстазом, проведенное Г. Виденгреном с привлечением свидетельств именно такого понимания данного фрагмента Гат пехлевийскими комментаторами в Денкарте VII.4.84 и со ссылкой на хорошую текстуальную параллель из Чхандогьи Упанишады 8.15.2, где говорится о духовном созерцании Атмана [Widengren, 1965. P. 68–71]. Все это весьма показательно с учетом известной позиции Ф. Кейпера, утверждавшего, что наречие Гат примерно одного времени с ведическим и намного старше древнеперсидского. В некоторых важных отношениях оно даже архаичнее, нежели язык Ригведы.
По мнению Дж. Ньоли, излагаемая в Гатах зороастрийская доктрина носит не только универсальный, но и эзотерический характер. Поэтому она так абстрактна, спекулятивна, окрашена прозелитизмом, морально-этической дидактикой и вместе с тем мистикой экстатического толка [Gnoli, 1980. P. 189]. В традиции Зороастр представлен жрецом-профессионалом с долгой специализированной выучкой в жанре сакральной гимнологии, как это доказывали Х. Ломмель, П. Тиме, Х. Хумбах. Красноречива терминология Гат с обозначением посвященных как vidva и vaedemna; оба эти термина этимологически и семантически родственны русским «ведун» и «ведьма». Все это, без сомнения, доказывает, что данное словоупотребление исключает возможность апелляции Гат к широким массам рядовых общинников. В Ригведе обо всем этом сказано длинными пассажами гимна 1.164. Там сообщается, что бессмертия за гробом достигнут те немногие, кто сумеет овладеть всей полнотой ритуала (строфы 22–25), т. е. жрецы (строфа 39). Познание таинств ритуала эквивалентно овладению сакральной метрикой (строфы 23–25). Вселенная целиком обязана существованием сакральному Слову (строфа 42).
Гата Ахунавайти (Ясна 28–34) подчеркивает достижение Заратуштрой центрального положения в земном мире. На эту роль его избрали небожители во главе с Маздой (Ясна 29), в экстатическом трансе ему были сообщены принципы и условия «этой жизни», т. е. первого земного существования, в котором действует оппозиция добра и зла (Ясна 30.3–6) [Лелеков, 1992. С. 98]. Более того, Ясна 31.8 свидетельствует, что Зороастр каким-то образом созерцал бога в момент сотворения Вохумана, т. е. в самом начале мира. Либо здесь вновь отголоски древнего мифа, либо это галлюциногенное парение шаманского духа. Контекст тут не исключает экстатического транса, как, впрочем, и совмещения обоих толкований. В той же мере сказанное относится к Ясне 43 с ее навязчивым рефреном: «Когда я созерцал Тебя…»
Однако Зороастр не находит место в своей концепции хаоме, и, возможно, шаманские черты у него – дань древней авторитетной традиции, без которой его проповедь не имела шанса на успех. Другими словами, пророк, подвергая ревизии былую общеиндоевропейскую типологию жертвенного ритуала, тем не менее был вынужден пользоваться подновленными лексическими и фразеологическими средствами ненавистного ему прошлого, без чего его просто не поняли бы даже приверженцы [Лелеков, 1992. С. 111]. Это объясняет, почему шаманские черты в Иране были очень актуальны, прежде всего, для зороастрийского жречества. В то же время Зороастр – заотар, т. е. жрец хаомы, а не атраван – жрец кровавых жертвоприношений и не кави! Зороастр отвергал не сам напиток, а технологию его использования. Главной схемой, «сценарием» зороастрийской Ясны / Яджны был миф о великом первожреце, чудесно возникшем из первых капель напитка бессмертия, как о гаранте этого бессмертия для верующих. Момент смешивания сока хаомы с молоком и знаменовал по ходу литургии мистическое рождение первожреца, в Индии – Васиштхи (Ригведа 7.33.9–11), в Иране – Зороастра (Ясна 29.7). Тайну ритуала можно было лишь провидеть внутренним оком, «узреть» в откровении, каковое якобы и было ниспослано Зороастру (Ясна 30, 31, 34, 43–44).
Эти теологические измышления таили в себе момент особой идеологической и социальной важности, претензию на изгнание из миропроцесса любых внешних сил, хотя бы и божественных. Реальность любого плана творили эксперты магии, шаманы и колдуны. Смысл и цели всего бытия достигались единственно ритуальным искусством жрецов, с чем полностью согласен автор Ясны 30.9а: «Да будем мы теми, кто обновит бытие!»
В главной культовой церемонии зороастризма сакральное таинство вершилось жрецами, а не богами, на что указывал еще Э. Бенвенист [Benveniste, 1935. P. 42–44]. Поэтому в конце
Ясны жрецы уже без недомолвок присваивают себе роль подлинных вершителей мирового процесса: «Да будем мы саошьянтами, да будем мы победоносными» (Ясна 70.4). Последний эпитет, несомненно, являет собой теократическую претензию на гегемонию в обществе, за что жречество и пострадало от Дария I, претендента на ту же роль «саошьянта победоносного», единственного легитимного посредника между небом и землей, повелителя событий в социуме от имени Ахурамазды. Как удачно выразился А. Бэрн, схватку за господство в древнеиранском мире выиграли «кшатрии», одолев своих конкурентов «брахманов» [Burn, 1962. P. 80], тогда как древнеиндийская традиция хотя бы на словах санкционирует обратную картину с торжеством брахманов над кшатриями. Целью борьбы сословий было право вершить миропроцесс магическими средствами от имени и по поручению Мазды [Лелеков, 1992. С. 113].
Во все времена сознательное освоение догматики ограничивалось узким сообществом интеллектуальной элиты, теми, «кто знает», инициированными vidva и vaedemna, о чем заявил и сам Зороастр (Ясна 48.3). Их представители, Арда Вираз и сам магупат Кирдер лично совершали внеземные путешествия за откровением из уст божества, а не его пророка с «неслыханным словом», хотя в Гатах Зороастр и настаивал на обязательности своего посредничества между общиной и небом [Gignoux, 1974. P. 63–69]. Чем изощреннее была метрика поэтического слова, тем действеннее казалась его магическая потенция, доказательство чему легко найти в собственных высказываниях Зороастра (Ясна 31 целиком, см.: [Брагинский, 1972. С. 120] и, особенно, Ясна 46.17: «…размеренными словами песнопения обращаюсь я, а не неразмеренными»). Убеждение в осязаемой действенности слова-заклинания было общим для всех древних индоевропейских поэтов [Schmidt, 1967]. Речь творила имена и тем самым вещи, поэтому владение ее волшебной потенцией резервировалось только для посвященных. Зороастр чаще всего называл себя как раз термином «мантран» (Ясна 32.13, 50.5), т. е. изрекатель действенных речений, пророк, «вещун», но отнюдь не просто поэт и не только духовный наставник. К тому же свои мантры Зороастр «провидел» не без помощи галлюциногенов [Лелеков, 1992. С. 124].
В 9 строфе Гаты Уштавайти (глава 46) присутствует фрагмент, бесспорно, архаического мифа. В нем повествуется о том, что лично Зороастр поведет праведников через Мост Чинвад в рай, а староиранское жречество кровавых жертвоприношений и культа хаомы, вступив на этот мост, рухнет с него и навечно окажется в аду [Widengren, 1966. Р. 175; Lincoln, 1981]. Образ Зороастра – психопомпа на границе двух миров, земного и загробного, восходит минимум к индоевропейской культурной общности.
Соотнесенность Зороастра уже в Гатах с разнообразными темами индоевропейской мифологии очевидна. Это и посредничество между небом и землей (Ясна 29, 34, 43–46), и глобальный контраст добра и зла (Ясна 30.3–6, 45.2), и пересечение границы двух миров по мосту Разделения (Ясна 46.9–11), и появление перед небесными силами в компании и от имени Души Скота, характерного символа общины [Schmidt, 1975. Р. 22], и мотивы шаманского откровения, и эсхатологическое сошествие огня в финале бытия (Ясна 31.3, 43.4. 47.6, 51.9) [Лелеков, 1992. С. 135].
Таким образом, хотя у иранцев жрец на определенном этапе и вытеснил шамана, шаманские черты не были изжиты, а перераспределились между различными категориями жречества и сохранились в их техническом багаже. «Шаманские» темы в мифологии связаны с фигурой самого Зороастра, традиционно в науке воспринимаемого как идеолога высокой жреческой культуры. Более того, отличаясь необыкновенной устойчивостью, несмотря на все попытки их изжить, они регулярно возрождались и использовались даже в постсанидское время.
ARCHAIC FEATURES IN ZOROASTRIAN PRIESTHOOD