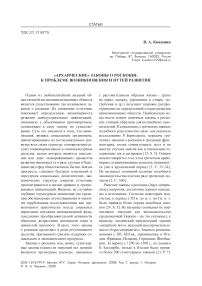«Архаические» законы о роскоши: к проблеме возникновения и путей развития
Автор: Квашнин В.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736942
IDR: 14736942 | УДК: 321.151(075)
Текст статьи «Архаические» законы о роскоши: к проблеме возникновения и путей развития
Одним из любопытнейших явлений общественной жизни цивилизованных обществ является существование так называемых законов о роскоши. Их появление отчетливо показывает определенную закономерность развития доиндустриальных цивилизаций, связанную с объективным противоречием, заложенным в саму основу их существования. Суть его сводится к тому, что цивилизация, являясь социальным организмом, ориентированным на последовательное развитие всех своих структур, одновременно создает соционормативные и социокультурные средства, целью которых является замедление или даже «замораживание» процессов развития некоторых (а в ряде случаев и большинства) сфер общественного бытия. Боязнь прогресса, слишком быстрых изменений и перестроек социальных, политических, экономических структур социума отчетливо просматривается в жизни древних и средневековых цивилизаций. Видимо, не случайно глубокие структурные изменения (по традиции обозначаемые отечественными и многими зарубежными исследователями как «революции») практически всегда сменялись периодами затухания инновационной фазы, замедления преобразовательной активности общества, возрастания значимости норм и ценностей прошлого. В свете этого законы о роскоши предстают в роли регулятивного средства, призванного снизить издержки социального и экономического прогресса.
Законы о роскоши или, иначе, сумптуар-ные законы (одним из значений лат. sumptus являются чрезмерные расходы, связанные с расточительным образом жизни – траты на пиры, одежду, украшения и утварь, погребения и др.) получают широкое распространение на определенной стадии развития цивилизованных обществ. Наибольшую известность имеют античные законы о роскоши, ставшие образцом для позднейших законодателей. К сожалению, о греческих законах подобного рода известно мало: как показало исследование Р. Бернхардта, передача греческих законов о роскоши в традиции фрагментарна, полна сомнительных мест и во многих случаях неясна как в отношении содержания, так и датировки [13. S. 5]. Однако можно говорить о том, что в греческом праве, нормы, ограничивавшие роскошь, появляются уже в архаический период [3. С. 33–34]. Не вызывает сомнений наличие подобного законодательства в целом ряде греческих полисов [2. С. 360].
Римские законы о роскоши (leges sumptu-ariae), напротив, достаточно хорошо освещены в источниках. Согласно некоторым подсчетам, в период с III в. до н. э. по I в. н. э. было принято более сорока подобных законов [24. S. 5]. Не вызывает сомнения их нормативное значение для законодательства средневековой Европы – на это указывает, к примеру, английский юридический термин «sumptuary laws», ведущий свое происхождение от «leges sumptuariae». Законы о роскоши, начиная с XII–XIII вв., принимались в Италии, Франции, Испании, Германии, Швейцарии. За период с 1200 по 1500 г., по данным К. Киллерби, только в Италии было принято более 300 сумптуарных законов [21. P. 7].
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © В. А. Квашнин, 2008
Как было подсчитано, в XV в. в городах Италии было издано 83 подобных закона, и количество их возросло более чем в два раза в каждое из последующих двух столетий [18. P. 136–138]. Некоторые исследователи указывают на наличие законов о роскоши в средневековой Японии, России периода правления Екатерины II и даже в современном Иране [1. P. 5; 25. С. 123–134]. Практика ограничительно-запретительного регулирования имела столь широкое распространение, что появляется соблазн счесть сумптуарные законы универсальным явлением мировой истории, имеющим свои аналоги в раннем законодательстве большинства стран. При всей специфике отдельных законодательных актов или их национальных групп можно говорить о том, что содержание законов о роскоши имеет единообразный характер и сводится к введению запретов на ношение одежды определенного покроя или цвета, украшений, употребления деликатесных продуктов питания и напитков (как правило, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение), участия в различного рода зрелищах и развлечениях.
Понимание сущности законов о роскоши невозможно без объяснения причины их возникновения. Проблема генезиса сумптуар-ного законодательства была затронута еще в 60-е гг. XX в. Е. Харлок, которая указала на наличие в «примитивных» обществах обычаев, проявляющих значительное сходство с законами о роскоши. По большей части они были связаны с запретами на ношение определенной одежды, украшений, употребление той или иной разновидности пищевых продуктов или напитков, налагаемыми на общинников, составляющих низшую страту общества. Из этого был сделан вывод о том, что законы о роскоши использовались правящей элитой для создания и закрепления классовых различий между знатью и представителям других групп населения [20. P. 295–301]. Однако с такой точкой зрения согласны далеко не все исследователи. Прежде всего, функции сумптуарного законодательства далеко не исчерпываются сохранением существующей социальной стратификации. К примеру, Ф. Болдуин, исследовав английские законы о роскоши позднего Средневековья и Нового времени, отмечает, что их принятие было обусловлено целым комплексом причин, среди которых он выделяет: 1) желание правящего класса сохранить классовые различия; 2) укрепление существующей в обществе системы моральных ценностей путем устранения тех явлений, которые воспринимались как безнравственные и вредные; 3) экономические мотивы, обусловленные необходимостью защиты внутреннего производителя от наплыва иностранных товаров, борьбы с нерациональными тратами граждан на приобретение предметов роскоши, и, как следствие, фискальными соображениями; 4) консерватизм мышления правящих слоев и Церкви [12. P. 10]. В работах исследователей неоднократно звучала мысль о том, что мотивы принятия законов о роскоши варьировались на протяжении различных периодов развития общества, завися от множества факторов, обусловленных конкретными историческими условиями [19. P. IX].
Истоки сумптуарного законодательства, несомненно, следует искать в социорегуля-тивной норматике архаического общества. Следует предположить генетическую связь законов о роскоши с эгалитаристкими социальными институтами типа потлача, функционировавшими в позднеродовом обществе и имевшими своей целью поддержание единства и стабильности коллектива путем предотвращения возможности накопления избыточного имущества в руках представителей определенного рода или семейства. Обряд потлача получил известность благодаря работе М. Мосса «Этюд о даре», в которой французский исследователь описал архаическую модель экономики, основанную на дарении. Внимание М. Мосса привлек обычай обмена дарами, характерный для индейцев тихоокеанского побережья Северной Америки. Его название «потлач» первоначально означало «питание» или «кормление», но со временем стало означать ритуальное празднество, в ходе которого семьи, выделяющиеся по своему имущественному положению в коллективе, не только производили раздачу значительной части накопленного имущества, но и уничтожали его [7. С. 134–155]. Схожие обычаи были зафиксированы у племен Меланезии, Папуа, Полинезии, Малайзии, что не позволяет считать обычаи индейцев Северной Америки неким отклонением, вызванным особенностями природного окружения или господствующего типа хозяйствования.
При этом обращает на себя внимание, что потлач не является продуктом и примитивного уклада экономики, вызванного развитием социума в неблагоприятных экологических и экономических условиях. Как особо подчеркивает М. Мосс, племена тлинкитов, хайда, квакиютлей, у которых был зафиксирован обряд потлача, относятся к наиболее развитым племенам северо-запада Америки с высоким уровнем развития ремесел, добычи природных ископаемых и обмена [7. С. 134–136]. В настоящее время универсальный характер потлача как института социального эгалитаризма не вызывает сомнений [5. С. 121]. Термины «эгалитаризм» и «эгалитарные общества» утвердились в западной антропологии в 60-е гг. ХХ в. благодаря работам американских исследователей неоэволюционистско-го направления [10. С. 40–41]. Термин изначально носил условный характер, обозначая не полное равенство в социальной и экономической областях жизни общества, а отсутствие на раннем этапе социального развития четко выраженного имущественного неравенства, оформившихся институтов власти, особых статусных преимуществ, передаваемых в рамках социальной группы по наследству. Нормативные установки, регулировавшие социальную жизнь, в эгалитарных обществах были менее формализованы и менее жестко санкционированы по сравнению с обществом, обладающим государственностью, имея по преимуществу моральный характер. При этом следует учитывать сложность и неоднозначность такого явления как потлач, пережившего длительную эволюцию, в ходе которой его смысл существенно менялся. Первоначально коллективные пиршественные праздники играли важную роль в жизни первобытной общины, сплачивая ее, активизируя социальные связи и обмен информации, а также минимизируя последствия неизбежно возникавшего усиления имущественного расслоения в коллективе, вызванного ускоренным развитием общественного производства после перехода к производящему хозяйству [5. С. 116–124, 152–155]. Вместе с тем, как отмечалось в литературе, по мере своего развития потлачевидные институты «способствовали достижению результатов, прямо противоположных тем целям, которые, казалось бы, ставились при воплощении в жизнь этих обычаев и ритуалов» [Там же.
С. 153]. Постепенно потлач трансформируется в престижные пиры, устраивавшиеся вождями или неформальными лидерами общины в целях роста своего авторитета, увеличения числа сторонников и создания благоприятных возможностей для занятия общественных должностей, позволявших контролировать положение дел в коллективе [8. С. 109]. Формирующийся в обществе слой знати начинает использовать престижные пиры, прежде всего, для усиления своих социальных позиций [10. С. 90].
Таким образом, по мере развития обществ раннеклассового типа, продвинувшихся к созданию государственных институтов, происходит переосмысление уравнительно-ограничительной соционорматики. В изменившихся социальных и экономических условиях они начинают играть новую роль. Именно на эти нормы обратила внимание Э. Харлок, посчитав, что они дали толчок развитию сум-птуарного законодательства в обществах, обладающих государственностью. Однако, как представляется, исследовательница не совсем верно истолковала их смысл. Многочисленные запреты и ограничения на ношение одежды определенного покроя или цвета, украшений из драгоценных металлов или ценных материалов, использование повозок или иных средств передвижения для основной массы населения были связаны не только и не столько с необходимостью сохранения сословно-классовых различий. Речь должна идти о более глубоких процессах, связанных со становлением государства.
Жесткая привязка сумптуарных законов к различным формам отделения ранее полноправных общинников от правящей элиты имеет в своей основе представление о резкой грани, отделяющей общество, обладающее государственностью, от различных форм общественного устройства догосударствен-ного типа. Более того, характеристика такого общества явно переносится на более ранний этап социальной и политической организации общества. Подразумевается, что в условиях государства антагонизм между общественными классами достигает такой остроты, что вызывает к жизни соответствующие законы. Однако на ранней стадии политогенеза четко отделить государство от негосударства очень сложно [9. С. 11–188; 10. С. 71–132]. Между двумя этими состояниями общества находится весьма продолжительный по времени переходный период. В связи с этим в отечественной исторической и этнографической литературе используется понятие протогосударства, а в зарубежной антропологии – раннего государства (early state) [16; 23; 26]. В настоящее время в западной антропологии господствует представление о нескольких уровнях общественной организации, отражающих процесс формирования государства: эгалитарное (сегментированное) общество – ранжированное общество – стратифицированное общество – государственное общество [14. P. 713–715]. Таким образом, государственные структуры возникают в стратифицированном обществе на его стадии перерастания в общество государственное. Само название этой пограничной стадии общественного развития показывает начавшийся процесс социальной стратификации, т. е. выделения в обществе различных социальных групп. Однако наличие в обществе лиц или семей, обладающих неравным основной массе соплеменников социальным статусом и имущественным положением, но не имеющих возможности сосредоточиться только на общественном управлении, не создает автоматически предпосылки к возникновению классовой или сословной борьбы. Такое общество характеризуется как ранжированное, а государство возникает лишь тогда, когда одна часть социальных групп формирует правящую страту, а другая – подчиненную [17. P. 225; 26. P. 19–20]. При этом государственность далеко не сразу обретает зрелые формы, в связи с чем и возникло представление о «раннем» государстве как некой промежуточной стадии. Его отличительной чертой является то, что общество и государство не отделены друг от друга. Унаследованная от первобытной архаики потестарная организация хотя внешне и напоминает государственно-политическую, не совпадает с ней по внутреннему содержанию. Насилие, если оно и используется, применяется по большей части по отношению к чужим общинам, присоединенным в результате военных экспедиций [22. P. 134–135]. Внутри же самого коллектива единство во многом поддерживается за счет особой, опять-таки восходящей к первобытности идеологии, облаченной в религиозно-мифологические формы. Ее суть Л. С. Васильев описывает как восходящий к строгим нормам первобыт- ной реципрокности взаимообмен, который в условиях государства принимает форму обмена деятельностью: основная часть общинников, объединенная в низшую страту, заняты в общественном производстве, тогда как немногочисленная высшая страта (знать, жрецы, воины, чиновники, объединившиеся вокруг фигуры правителя) заняты в сфере управления, без нормального функционирования которой усложнившаяся структура общества существовать уже не может [4. С. 66].
Этнологические исследования показывают, что уже на ранних стадиях общественного развития наблюдается выделение внутри коллектива нескольких больших групп, как правило, связанных с функциями управления, военного дела и производства. Процесс образования государства не приводит к их исчезновению [6. С. 4]. Напротив, социальная и имущественная дифференциация сопровождалась закреплением функциональных обязанностей различных групп населения путем выделения сложной иерархии рангов, а затем и формирования архаических сословий, на основе которых возникают правящая и подчиненная страты. Следовательно, «протосумптуарные» нормы, описываемые Э. Харлок, создавали не сословно-классовые границы (установка, выглядящая модернистской при попытке применения ее на конкретном материале обществ переходного типа), а фиксировали функциональные различия отдельных общественных групп. Их функциональный статус закреплялся определенными семиотическими средствами, что и обуславливало важность покроя и цвета одежды, использования украшений из драгоценных металлов, средств передвижения, поскольку они наглядно демонстрировали социальную роль их носителя [11. С. 228–301]. Таким образом, «протосумптуарные» нормы, скорее всего, возникают на стадии ранжированного общества. Их появление было вызвано процессами усложнения общественной организации, усиливавшими значение разделения труда «правителей» и «управляемых» внутри общественного организма. Только по мере становления зрелой государственности, утверждения в обществе классовой и сословной дифференциации разнообразные формы ограничительного законодательства, условно объединяемые в группу сумптуар-ных законов, начинают играть ту роль, кото- рая им приписывается современными исследователями.
По другому пути пошло развитие законов о роскоши в античном мире. Как и в других регионах, они берут свое начало в архаических уравнительных нормах, существовавших в догосударственном обществе. Однако дальнейшая их эволюция была обусловлена спецификой античной формы государства, отличной от модели, характерной для обществ Древнего Востока, Африки или доколумбовой Америки. Она выглядит настолько отличной от «классического» варианта политогенеза, что оценивается как некий феномен, результат социальной мутации, нигде и никогда не повторившейся в подобной форме [4. С. 32]. В условиях античного государства архаическая община превратилась в коллектив юридически равноправных граждан, функционирующий в условиях расцвета частнособственнических отношений при сохранении контроля со стороны самой общины. В этой ситуации сумптуарные нормы переживают второе рождение, видоизменяясь и приспосабливаясь к специфике античного общества. Соответственно, возникшие античные законы о роскоши не закрепляли функционально-сословные различия в обществе, а, напротив, создавали предпосылки для уравнения, насколько это было возможно, различных групп населения внутри гражданской общины. Поэтому они, в первую очередь, затрагивали интересы верхушки гражданского коллектива, имевшей аристократический характер [15. P. 117–127]. Именно в силу отмеченных причин данная группа законов, возникших в античном полисе, получила название «законов о роскоши». С точки зрения развития социальной структуры законы о роскоши были одним из средств поддержания гомогенности и стабильности античной гражданской общины. Очевидно, что с исчезновением античной цивилизации порожденные ею законы о роскоши утрачивают свое смысловое наполнение. И хотя они сохраняют значение образца для последующего европейского законодательства, законы о роскоши Средневековья и раннего Нового времени были созданы в иной исторической ситуации и отвечали другим социально-политическим, экономическим и идеологическим потребностям. Как показывает анализ генезиса за- конов о роскоши, их становление и развитие было связано с постпервобытным раннеклассовым обществом, основанным на аграрном производстве. Это заставляет поставить вопрос, еще требующий своего разрешения, о социальной среде, периодически порождавшей подобные установления и наполнявшей их ценностным содержанием.
N. Y., 1991.
Материал поступил в редколлегию 20.10.2007