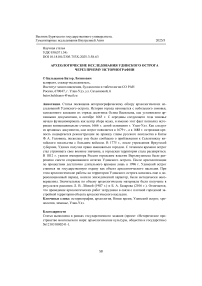Археологические исследования Удинского острога через призму историографии
Автор: Бальжанов Б.Л.
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историографическому обзору археологических исследований Удинского острога. История города начинается с небольшого зимовья, заложенного казаками из отряда десятника Осипа Васильева, как установлено архивными документами, в октябре 1665 г. С середины следующего года зимовье начало функционировать как центр сбора ясака, и именно этот факт позволил историкам конвенционально считать 1666 г. датой основания г. Улан-Удэ. Как следует из архивных документов, сам острог появляется в 1679 г., а в 1688 г. острожная крепость подвергается реконструкции по приказу главы русского посольства в Китае Ф. А. Головина, поскольку ему было сообщено о приближении к Селенгинску китайского посольства с большим войском. В 1775 г., после учреждения Иркутской губернии, Удинск получил право именоваться городом. С течением времени острог стал утрачивать свое военное значение, а городская территория стала расширяться. В 1812 г. указом императора России городским властям Верхнеудинска было разрешено снести сохранившиеся остатки Удинского острога. После археологизации по прошествии достаточно длительного времени лишь в 1996 г. Удинский острог ставится на государственную охрану как объект археологического наследия. При этом археологические работы на территории Удинского острога начались еще в дореволюционный период, носили эпизодический характер, были методически несовершенны. Значительные по объему археологические материалы были получены в результате раскопок Л. В. Лбовой (1987 г.) и Б. А. Базарова (2016 г.). Отмечается, что проведение археологических работ затруднено в связи с плотной городской застройкой территории объекта археологического наследия.
Историография, археология, Новое время, Удинский острог, хронология, зимовье, Улан-Удэ
Короткий адрес: https://sciup.org/148332053
IDR: 148332053 | УДК: 930(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-3-58-63
Текст научной статьи Археологические исследования Удинского острога через призму историографии
Бальжанов Б. Л. Археологические исследования Удинского острога через призму историографии // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 3. С. 58–63.
Археологические памятники Нового времени привлекают к себе все большее внимание со стороны научной общественности, поскольку могут быть с определенной полнотой охарактеризованы как со стороны письменных, так и вещественных источников. Удинский острог в этом отношении не исключение. Все, что было связано с хронологией событий, архитектурой и планиграфией объектов, получено из архивных материалов — отписок казаков, исторических планов, описаний в дневниках путешественников и посольств. Вещественные источники, характеризующие материальную культуру, получены методами археологических раскопок. Таким образом, объединение источников и их тщательный анализ предполагают целостную реконструкцию событий и явлений, связанных не столько с историей одного конкретного острога, сколько с историей освоения Сибири в целом.
Удинский острог — единственный из всех острогов на территории Республики Бурятия, состоящий на государственной охране. Остальные известные остроги, к сожалению, не охраняются государством и некоторые из них подвергаются грабительским раскопкам. Рассматривая результаты археологических исследований Удинского острога, мы можем представить себе тот громадный объем научной информации, уничтожаемой «черными копателями», по сей день орудующими на территориях этих острогов.
Удинский острог состоит в числе немногих объектов, на которых проводились археологические работы. Сведения о первых раскопках на территории Удинского острога относятся к дореволюционному периоду, когда в 1911 г. краеведом П. Т. Труневым и учителем И. Ноздровским был заложен небольшой рекогносцировочный раскоп, в котором ими были зафиксированы нижние венцы караульной башни [8]. Подробные сведения, к сожалению, не сохранились.
Следующий этап археологических исследований Удинского острога относится к советскому времени (1980-е гг.).
В 1982 г. А. В. Тиваненко на площади памятника был заложен разведочный шурф, в котором были обнаружены остатки кострищ и обгоревшие фрагменты древесины. Анализируя расположение этих фрагментов, исследователь предположил, что это, возможно, остатки тыновой острожной стены. К сожалению, отсутствие привязок шурфов к площади памятника снижает информационный потенциал проведенной А. В. Тиваненко работы.
Большим шагом в археологическом исследовании Удинского острога стали разведочные работы Л. В. Лбовой в 1988 г. для определения культурного слоя. Шурфы и траншеи были заложены по улицам Малостолярная (д. № 11, 13) и Гоголя (д. № 14, 18). В процессе работ были обнаружены многочисленные фраг- менты костей животных, коррозированные железные изделия, два фрагмента черной пересохшей дубленой кожи от изделия в виде чехла, железный топор с бородкой, остатки поливной керамики и керамики, изготовленной на гончарном круге, а также черешковый наконечник стрелы (типа срезня), отнесенный Л. В. Лбовой к позднемонгольским (раннебурятским) наконечникам XVI–XVII вв. А. И. Симухин в своей статье отмечает, что типологически близкие наконечники встречаются в памятниках монгольской культуры XIII-XIV вв. [7, с. 10]. Зафиксированные в шурфах и траншеях остатки деревянных конструкций интерпретируются в одном случае как части «кремлевской» стены, в другом — как «остро-жины», являвшиеся первым защитным сооружением зимовья. В целом культурный слой был отнесен к XVII–XVIII вв. Указывается, что острог был хозяйственным, чем военным, «организмом» и вел относительно спокойную жизнь. Результаты археологических исследований Л. В. Лбовой были отражены в отчетной документации, но не были опубликованы [5]. В 2016 г. А. И. Симухиным публикуются материалы раскопок Удинского острога, полученных Л. В. Лбовой. Во многом в этих публикациях автор следует тем же выводам, что были изложены в отчетной документации 1988 г., но несомненной заслугой исследователя является ввод в научный оборот археологической коллекции Удинского острога [7; 10].
Очевидно, археологические изыскания Л. В. Лбовой (1988) по определению культурного слоя стали той основой, что позволили поставить Удинский острог в 1996 г. на государственную охрану.
Современный этап исследования Удинского острога представлен археологическими работами, проводившимися в 2016 г. под руководством Б. А. Базарова и приуроченными к 350-летию г. Улан-Удэ [1–3]. Раскоп был заложен на свободном участке археологического памятника, расположенного на пересечении улиц Гоголя (с севера) и Мичурина (с запада). В ходе работ была обнаружена западная часть оборонительной стены острога, представленной тарасной конструкцией, а также остатки северо-западной угловой башни. За пределами острога было выявлено несколько захоронений, совершенных по православному обряду [4].
Тарасная конструкция, судя по всему, помимо военной функции больше имела хозяйственное значение. В качестве аргумента приводится наличие дверных проемов в камерах, в некоторых из них были обнаружены признаки ремесленного производства, т. е. обрезки кожи, остатки подошвы кожаной обуви, деревянная стружка, обработанная кость и т. д.
Кроме тарасной конструкции и остатков угловой башни также были найдены три могилы. Первая могила представляет собой коллективное захоронение. В верхнем ярусе была зафиксирована колода, внутри которой был женский костяк, плохая сохранность костей была интерпретирована как следствие некой болезни. Нижний ярус представлял собой три деревянные колоды, в которых были погребены мужчина (предположительно 40–50 лет), женщина примерно того же возраста и ребенок около 12–14 лет. Во всех погребениях отсутствовал сопроводительный инвентарь. Было высказано предположение, что умершие являлись членами одной семьи. Вторая могила — парная — была расположена южнее первой, в ней были погребены мужчина и женщина, при этом мужской костяк располагался в колоде, а женский — в гробу. В отношении этих погребенных также было высказано предположение о захоронении семейной пары. Отдельное разрушенное погребение имело наиболее плохую сохранность, от костяка остались лишь голени.
Погребальный обряд был интерпретирован как православный. Об этом свидетельствуют такие признаки, как ориентировка умерших по линии запад — восток (голова обращена на запад) и ингумация в колоде либо в гробу. Исследователи относят данные погребения к концу XVII — первой половине XVIII в. и предполагают, что это, возможно, остатки кладбища первых жителей Удинска, относящихся ко второму или третьему поколениям [3; 9].
Археологическую работу 2016 г., проведенную под руководством Б. А. Базарова, выгодно отличает комплексный подход к объекту исследования. На территории Удинского острога были апробированы геофизические методы, отобраны фрагменты деревянных конструкций для дендрохронологических определений, а внушительное археозоологическое собрание подвергнуто палеонтологическому анализу [6]. Антропологические остатки с православного некрополя изучены изотопными методами в целях реконструкции палеодиеты первых жителей Удинска, в будущем же костные остатки планируется исследовать методами физической антропологии и палеогенетики. Можно отметить тот факт, что до сих пор еще не опубликован сам предметный ряд археологических находок с Удинского острога, который вызвал бы несомненный интерес у археологов, занимающихся изучением объектов археологического наследия этого времени.
Итогом археологических исследований Удинского острога является обнаружение культурного слоя XVII–XIX вв., а также остатков самого острога, материалы которого дают нам представление о материальной культуре и хозяйственной деятельности проживавшего здесь населения. Из анализа публикаций нельзя сделать однозначный вывод о выявлении культурного слоя, относящегося ко времени функционирования зимовья. Археологическими раскопками не удалось обнаружить остатки самого зимовья, что обусловлено существующей плотной городской застройкой территории объекта археологического наследия «Удинский острог».