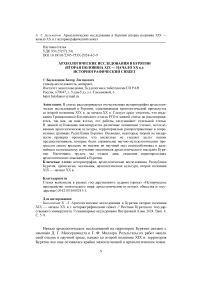Археологические исследования в Бурятии (вторая половина XIX - начало XX в.): историографический сюжет
Автор: Бальжанов Б.Л.
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отечественная историография археологических исследований в Бурятии, охватывающая хронологический промежуток со второй половины XIX в. до начала XX в. Следует сразу отметить, что изыскания Троицкосавско-Кяхтинского отдела РГО в данной статье не рассматриваются, так как, на наш взгляд, его работы заслуживают отдельной статьи. В данной публикации анализируются различные концепции ученых, исследовавших археологические культуры, территориально распространенные в современных границах Республики Бурятия. Очевидно, некоторые теории не выдержали проверку временем, что нисколько не умаляет заслуг наших предшественников, которые были ограничены научно-методологическим прогрессом своего времени, но именно их научный пыл поспособствовал в дальнейшем комплексному изучению памятников археологического наследия Бурятии. Настоящим трудом мы отдаем дань уважения первопроходцам археологических изысканий в Бурятии.
Историография, археологические исследования, республика бурятия, хронология, могильник, археологическая культура, вторая половина xix - начало хх в
Короткий адрес: https://sciup.org/148330319
IDR: 148330319 | УДК: 930.25(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2024-4-5-9
Текст научной статьи Археологические исследования в Бурятии (вторая половина XIX - начало XX в.): историографический сюжет
Начало археологических исследований на территории Бурятии связано с именами Д. Г. Мессершмидта и Г. Ф. Миллера. Результаты их работ нашли свой отклик в научной среде, однако ко второй половине XIX в. территория Бурятии все еще оставалась крайне малоизученной в археологическом плане.
Исследования этого периода (XVIII в.) были рассмотрены нами ранее в отдельной публикации [1]. Следует лишь отметить, что имеющиеся здесь памятники вызывали интерес ученых, которые относили их к народам либо к племенам, проживавшим в данном регионе до появления на этой территории бурят. В рамках этой работы мы не касаемся исследований Троицкосавско-Кяхтинского отдела Русского Географического общества (РГО), поскольку его обширные результаты изысканий заслуживают отдельной статьи.
Одним из первых исследователей древностей Бурятии был филолог М. А. Кастрен. В 1848 г. он отправился в лингвистическую экспедицию, во время которой описал каменные курганы, расположенные в степной зоне Се-ленгинского среднегорья [4]. Попытки исследования этих курганов предпринимались им в Кударинской и Хоринской степях, к сожалению, исследованиям помешали обстоятельства непреодолимой силы. В своем описании Кастрен ссылается на бытующее название этих курганов — «Kirgil-ur», что позволяло приписать «киргизам» постройку этих каменных сооружений [4, с. 440]. Примечательно, что этническая принадлежность человеческих останков, ингумированных в этих курганах, относилась ученым не к киргизам, а к бурятам, причем шаманского вероисповедания. В качестве маркера указано наличие тройной каменной оградки у данных курганов. Подобной оградкой якобы буряты обносили шаманские погребения. Другим аргументом выступает золотое изделие из такого кургана, на котором были изображены фигуры, схожие с монгольскими бурханами. В конечном итоге Кастрен приходит к выводу, что на территории Забайкалья, не исключая того факта, что буряты также воздвигали курганы, некогда проживали и племена тюркского происхождения, которые также оставили на этой территории свои курганы.
Д. П. Давыдов в своем отчете предложил классификацию памятников, расположенных в долине р. Иволги и Хоринской степи [2]. Выглядит она следующим образом:
-
- вертикально стоящие плиты в форме четырехугольника;
-
- большая поверхность, покрытая валунами на одном уровне с дневной поверхностью, либо несколько возвышающаяся над землей каменная площадка;
-
- полые кольцеобразные насыпи.
В дальнейшем он подверг сомнению свой собственный тезис о принадлежности вертикально стоящих плит в форме четырехугольника могильным сооружениям. Сегодня можно утверждать, что эти сооружения, очевидно, являются плиточными могилами, а второй тип памятников курганами — керексурами. Полые кольцеобразные насыпи ассоциируются с кольцеобразными кладками хунну, хотя в то же время ими могут быть и разграбленные средневековые кладки.
Свою типологию могильников предложил также Л. С. Залкинд. Он разделил их на три типа: прямоугольные, круглые и квадратные. Отсутствие костей погребенных натолкнуло его на мысль, что данные памятники могли являться алтарями для жертвоприношений1. Исходя из того, что упоминаемые могильники располагались близ современного Новоселенгинска, речь идет, скорее всего, о расположенных там плиточных могилах и курганах-керексурах.
Свою интерпретацию каменных насыпей овальной и круглой формы, расположенных в среднем течении реки Оки, предложил граф П. А. Кропоткин [3]. Первоначально Петр Алексеевич определил их как плавильные печи, основываясь на имеющихся следах копоти, однако результаты полевых исследований опровергли данную гипотезу. Отсутствие шлака и других следов металлургии привело его к выводу, что данные конструкции относятся к разновидности жилищ, но об их культурной принадлежности изыскатель версий не выдвинул.
П. А. Кельберг выдвинул гипотезу, согласно которой буряты переселились в данный регион не ранее первой половины XVI в., ранее же на этой территории проживал некий народ. В свидетельство существования этого народа он указывает различные археологические памятники: ирригационные сооружения, погребения, каменные, медные и железные изделия. Наиболее близким к данному племени этносом Кельберг считает народность прибалтийско-финской группы — чудь. Ареал их расселения автор обозначает от Южной Сибири до Уральских гор. Полевые работы Кельбергом не проводились, что повлекло за собой некую тенденциозность и отсутствие конси-стентности данных.
Одним из первых попытку хронологической корреляции культурных слоев с этническими группами, населявшими Тункинскую котловину, предпринял И. С. Поляков [5]. Первый культурный слой, включенный в чернозем и находящийся под ним суглинок, содержал находки из бронзовых и медных изделий, а также фрагменты костей одомашненных животных. Эти материалы он отнес к монгольскому периоду. Второй культурный слой залегал в аллювии, на глубине до 2 м. Основным материалом для орудий труда выступали кости и камень, что натолкнуло автора на мысль о более раннем возрасте этого слоя (возможно, каменный век), нежели первый. Помимо этого им было обнаружено большое количество наконечников стрел, которые были разделены на три вида треугольников: равнобедренный, овальный и призматический. Функциональная характеристика всего массива наконечников стрел ограничилась лишь утверждением, что они могли использоваться как на войне, так и в охоте.
Свою версию о ледниковом периоде в Сибири предложил геолог И. Д. Черский. По его мнению, гляциал территориально не охватывал всю зону Сибири, а имел лишь региональный характер. Расселение людей в данной местности хронологически он относит к начальному этапу плейстоцена [7].
Вопросом о появлении человека на территории Сибири задавался и А. С. Уваров. На основе материалов ученых, представленных выше, им была
1Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Т. XXI. Иркутск: Восточное обозрение, 1890. Текст: непосредственный.
предпринята попытка установить хронологически совместное существование древнего человека и представителей ископаемой фауны, в частности мамонта. Также он изучил артефакты, найденные на берегах Байкала, и пришел к выводу, что грубая форма данных орудий свидетельствует об их хронологически раннем этапе. Основываясь на этом выводе, исследователь полагает, что палеолитический период в азиатской части материка наступил гораздо раньше, чем в европейской. На его взгляд, побережье Байкала являлось ареалом обитания мамонтов, которые служили источником пропитания древнейших людей. Вслед за миграцией животных на европейскую часть началась миграция первобытного населения. Изучая тункинские материалы, А. С. Уваров полагал, что в данном регионе происходила поэтапная смена двух культур, явным свидетельством чему служит исходный материал для орудий труда [6].
Резюмируя вышеизложенное, мы можем утверждать, что данный хронологический этап являлся основополагающим в системе накопления археологических знаний о Бурятии. Изыскания ученых способствовали не только изучению нашего региона, но и совершенствованию методологических подходов в археологической и исторической науке. Одним из главных вопросов в интерпретации археологических памятников Бурятии являлось их культурно-хронологическое и этническое определение.
Список литературы Археологические исследования в Бурятии (вторая половина XIX - начало XX в.): историографический сюжет
- Бальжанов Б. Л. Археологические исследования Байкальской Даурии в XVIII веке // Материалы LXIV Российской (с международным участием) археологоэтнографической конференции студентов и молодых ученых. Чита, 2024. С. 205-206. Текст: непосредственный.
- Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. 2 / под редакцией Е. И. Ламанского. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1856. 274 с. Текст: непосредственный.
- Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Книга IX-X / под редакцией Н. И. Кашина. Иркутск: Типография окружного штаба, 1867. 626 с. Текст: непосредственный.
- Кастрен М. А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, северной России и Сибири (1838-1844, 1845-1849) с рисунками и портретом Кастрена. Москва: Типография Александра Семена, 1860. 495 с. Текст: непосредственный.
- Отчет Императорского Русского географического общества за 1868 год / составитель О. Р. Остен-Сакен. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и компании, 1869. Текст: непосредственный.
- Уваров А. С. Археология России. Каменный период. Москва: Синодальная типография, 1881. Т. 1. 468 с. Текст: непосредственный.
- Черский И. Д. Предварительный отчет о геологическом исследовании береговой полосы оз. Байкал // Издание ВСОИРГО. Иркутск: Типография штаба Иркутского военного округа, 1886. Текст: непосредственный.