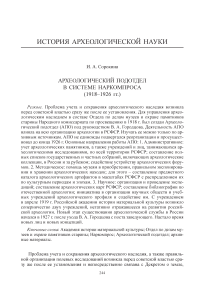Археологический подотдел в системе Наркомпроса (1918-1926 гг.)
Автор: Сорокина И.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История археологической науки
Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проблема учета и сохранения археологического наследия возникла перед советской властью сразу же после ее установления. Для управления археологическим наследием в составе Отдела по делам музеев и охране памятников старины Народного комиссариата по просвещению в 1918 г. был создан Археологический подотдел (АПО) под руководством В. А. Городцова. Деятельность АПО влияла на всю организацию археологии в РСФСР. Изучать ее можно только по архивным источникам. АПО не единожды подвергался реорганизации и просуществовал до конца 1926 г. Основные направления работы АПО: 1. Административное:учет археологических памятников, а также учреждений и лиц, занимающихся археологическими исследованиями, по всей территории РСФСР; составление полных списков государственных и частных собраний, включающих археологические коллекции, в России и за рубежом; содействие устройству археологических форумов. 2. Методическое: помощь музеям в приобретении, правильном экспонировании и хранении археологических находок; для этого - составление предметного каталога археологических артефактов в масштабах РСФСР с распределением ихпо культурным периодам и эпохам. 3. Научное: организация и проведение экспедиций; составление археологических карт РСФСР; составление библиографии по отечественной археологии; инициатива в организации научных обществ и учебных учреждений археологического профиля и содействие им. С учреждением в апреле 1919 г. Российской академии истории материальной культуры возникло соперничество двух учреждений, негативно отражавшееся на развитии российской археологии. Новый этап существования археологической службы в России начался в 1927 г. после ухода В. А. Городцова с поста заведующего. Настало время новых лиц и новых концепций.
Академия истории материальной культуры, отдел по делам музеев и охране памятников старины, наркомпрос, археологический подотдел, архивные материалы
Короткий адрес: https://sciup.org/14328352
IDR: 14328352
Текст научной статьи Археологический подотдел в системе Наркомпроса (1918-1926 гг.)
Проблема учета и сохранения археологического наследия, а также правильной организации полевых исследований возникла перед советской властью сразу же после ее установления и непосредственно связана с Декретом о земле, согласно которому земля передавалась в пользование крестьян, при этом ликвидировалась частная собственность на нее. В Российской империи, как известно, охранное законодательство отсутствовало. И чтобы не потерять накопленное веками культурное наследие России, новая власть неизбежно должна была срочно принять меры к его сохранению. Ряд шагов в этом направлении был сделан уже в конце 1917 – начале 1918 г. (Сорокина, 2014. С. 501–503).
Весной 1918 г. в структуре Наркомпроса появились два новых органа, занимавшихся проблемами культурного наследия: Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины и Всероссийский Отдел по делам музеев и охране памятников старины (ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 20б)1. Руководителем обоих была назначена Н. И. Троцкая. Для управления археологическим наследием в составе МУЗО тогда же был создан Археологический подотдел (далее – АПО). 17 мая 1918 г. его заведующим стал В. А. Городцов. Деятельность АПО влияла на всю организацию полевой (и не только) археологии в РСФСР. Есть мнение, что это специальное подразделение появилось в результате личных усилий Городцова ( Белозёрова, Кузьминых , 2015. С. 39; Платонова , 2010. С. 204). Мне уже приходилось обосновывать противоположную точку зрения и писать о том, что, с одной стороны, выбор заведующего был отнюдь не случайным, с другой – не был следствием использования задач новой власти для реализации его собственных амбиций ( Сорокина , 2014. С. 507).
Работа Археологического подотдела крайне скупо отражена в литерату-ре2. Полное представление обо всем ее многообразии можно получить только по архивным документам, хранящимся в ГАРФ и ОПИ ГИМ. В определенной степени полезны и материалы РО НА ИИМК, более отражающие деятельность Академии истории материальной культуры.
Как же было организовано административное руководство российской археологией в первое десятилетие советской власти? Какие ставились задачи и как они решались? Еще 8 апреля 1918 г. Коллегия МУЗО утвердила «Инструкцию археологическому п/отделу Отдела музеев и охраны памятников искусства и старины» (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–1 об.)3. С мая по октябрь 1918 г. формировался штат. По первоначальному плану Городцова для выполнения поставленных задач требовалось не менее 20 сотрудников. В итоге до 1921 г. работали 7 человек (заведующий и его заместитель, 3 научных сотрудника, 2 – технических), причем сам В. А. и его заместитель с 1919 г. С. П. Григоров совмещали деятельность в АПО с работой в РИМе4. Там АПО и располагался территориально по соглашению Наркомпроса с руководством музея.
Из отчета В. А. Городцова о деятельности подразделения с 1918 по 1922 г. известно, что в первоначальном варианте АПО существовал с октября 1918 г. по 1 декабря 1921 г. Затем он, сохранив функции, был фактически понижен в статусе и превратился в Археологическую секцию (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 252. Л. 36). Далее из документов явствует, что в июне 1923 г. секция опять трансформировалась в подотдел, просуществовавший до конца 1926 г., когда в целях оптимизации упразднили разделение МУЗО на несколько подотделов. Логично предположить, что положение рядового сотрудника, пусть и куратора одного из важнейших направлений деятельности МУЗО, никак не могло устроить В. А. Городцова и совершенно не соответствовало масштабу его личности. Вероятно, это обстоятельство в неменьшей степени, чем конфликт с руководством Главнауки, способствовало его уходу в октябре 1926 г. и прекращению административной деятельности.
Параграф 1 упомянутой выше «Инструкции» гласит: «Археологический п/ отдел входит в состав Отдела музеев и охраны памятников искусства и старины для ведения всех вообще дел, относящихся до отечественной археологии». Эти «дела» подразделяются на 3 направления: 1. Административное: учет археологических памятников, а также учреждений и лиц, занимающихся археологическими исследованиями, по всей территории РСФСР; составление полных списков государственных и частных собраний, включающих археологические коллекции, в России и за рубежом; содействие устройству археологических форумов. 2. Методическое: помощь музеям в приобретении, правильном экспонировании и хранении археологических находок; для этого – составление предметного каталога археологических артефактов в масштабах РСФСР с распределением их по культурным периодам и эпохам5. 3. Научное: организация и проведение археологических экспедиций; составление археологических карт РСФСР по культурным периодам и эпохам; составление библиографии по отечественной археологии; инициатива в организации научных обществ и учебных учреждений археологического профиля и содействие им6. Для выполнения административных функций, собственно, Археологический подотдел и создавался. Именно они и являлись первоочередной задачей власти. Включение методического направления, ориентированного на музейную работу и, безусловно, очень важного для образования и воспитания широких слоев населения, получивших после революции доступ к культуре, с одной стороны, являлось обязательной частью функций самого Музейного отдела, с другой – определенно отражало личный интерес Городцова как специалиста-музееведа высокого класса. И наконец, научное направление. Следует признать, что выполнение столь масштабных задач в огромной стране должно быть обеспечено научным учреждением с большим штатом, включающим специалистов в разных областях археологии, а не административным органом. Но, во-первых, до апреля 1919 г. (до образования РАИМК) такое учреждение в России отсутствовало; во-вторых, сам профессор В. А. Городцов был прежде всего крупнейшим ученым. Он прекрасно понимал огромную именно научную ценность российского археологического наследия, видел потрясающие перспективы в возможности его планомерного исследования, открывавшиеся при государственном регулировании, и намеревался претворить их в жизнь.
С учреждением в апреле 1919 г. Российской академии истории материальной культуры7 возникло соперничество двух учреждений – АПО и РАИМК, существовавшее в острой или скрытой форме до 1926 г. и негативно отражавшееся на развитии археологической науки, в частности полевых исследований ( Платонова , 2010. С. 212–213; Сорокина , 2014; 2015а; 2015б). При этом обе институции находились в структуре Наркомпроса РСФСР, но с разным подчинением: АПО был подразделением Отдела по делам музеев, РАИМК состояла в ведении Научного отдела.
В 1920 г. советское правительство приняло решение о реорганизации Нар-компроса и оптимизации его деятельности. В результате в феврале 1921 г. были созданы 3 главных управления: Главархив, Главмузей (на базе МУЗО) и Главнаука (на базе Научного отдела). Вопрос о структуре будущего Главмузея8 обсуждался на Коллегии МУЗО еще в январе 1920 г. (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. д. 121. Л. 9–9 об). Выяснив, как работа Отдела соотносится с разными учреждениями, в том числе РАИМК, Коллегия постановила, что археологическое направление следует передать РАИМК, так как в деятельности подотдела и Академии много общего. Это была не только модная тогда «борьба с параллелизмом», но и с трениями между РАИМК и АПО. Однако согласно Декрету об образовании Академии, ее задача – ведать в пределах РСФСР «научной стороной всех археологических раскопок и разведок, право на производство которых выдается Археологическим отделом9 <…> на основании заключений Академии», то есть админстративная регламентация на нее изначально не возлагалась, как и задачи учета объектов археологического наследия. В результате археология осталась в ведении Главмузея, но к 1 декабря 1921 г. АПО был преобразован в Археологическую секцию и вошел в Отдел учета и охраны (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 130. Л. 21–23). Вследствие общего масштабного сокращения штатов Наркомпроса численность сотрудников сократилась фактически до одного человека – самого В. А. Городцова. Но решением Президиума Главмузея был при секции утвержден внештатный Ученый совет в составе известных ученых: Р. Ю. Виппера, Ф. В. Баллода, В. В. Гольмстен, Ю. В. Готье, Д. Н. Егорова, Н. Е. Макаренко,
Н. И. Новосадского, П. С. Рыкова, А. А. Спицына, В. Ф. Смолина, А. С. Федоровского (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 135. Л. 89). Выполнение многообразных задач в таких экстремальных условиях, естественно, оказалось невозможным.
С сокращением финансирования и уходом сотрудников было свернуто составление археологической карты России (к тому времени собран весь материал для карт по палеолиту и неолиту и начат сбор материала по эпохе бронзы). А всего предполагалось создать примерно 20 карт, из них до 10 – только по раннему железному веку. Должна была получиться полная картина: «Цель – как археологическому подотделу она представляется – является достойною великого государственного строительства» (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 308. Л. 14). Активность в общении с провинциальными музеями и научными обществами по сравнению с 1921 г. резко сократилась. Практическая работа свелась к выдаче не более 18 открытых листов (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 4. Л. 66)10. Большая часть этих полевых исследований выполнена самим Городцовым в Московской губернии «почти без расходов, на средства задействованных учебных заведений». Вместе с тем, как он отмечал в отчете за 1918–1922 гг., «…большой опыт в производстве археологических работ <...> указал на необходимость выработки единого для всей РСФСР положения об организации всех археологических сил Республики и привлечения к работе крестьянских и рабочих масс, которые бы помогли сохранению повсюду памятников и помогли научным исследованиям специалистами-археологами» (Там же)11. Эту работу Музейный отдел поручил В. А. Городцову и С. П. Григорову. Таким образом, наметилось важное направление деятельности археологической службы – подготовка законодательства.
С октября 1918 г. действовал Декрет СНК «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»12. Но в нем предусматривалась охрана только археологических коллекций, но не памятников. Страна же переходила на «мирные рельсы», возрастала интенсивность землепользования, а стало быть, и угроза их разрушения. Необходима была новая законодательная база.
В январе 1921 г. МУЗО отправил на заключение в Наркомюст проект «Положения о порядке ремонта и реставрации памятников живописи, архитектуры и декоративного искусства и о производстве археологических раскопок на территории РСФСР» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 431. Л. 128). Документ не вызвал возражений юристов и поступил на утверждение в СНК, но вопрос о дальнейшем его продвижении был отложен. Содержание «Положения», подписанного начальником Главнауки И. И. Гливенко: «1. Все памятники живописи и архитектуры, скульптуры и декоративного искусства, имеющие историческо-художес-твенное значение, а также археологические памятники территории РСФСР находятся на учете и под охраной Отдела музеев и охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению. 2. Ввиду особой научнотехнической сложности работ по ремонту и реставрации означенных памятников, а равно и археологических раскопок, и вследствие отсутствия на местах опытных руководителей, все подобные работы производятся лишь с разрешения и под контролем Отдела музеев и охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата по просвещению» (ГАРФ. Оп. 2. Д. 2. Л. 187). «Положение» не конкретно и направлено исключительно на пресечение инициативы на местах, часто наносящей памятникам ущерб разного рода. Точно так же в свое время этим была вынуждена заниматься и ИАК.
Как заведующий Археологическим подотделом В. А. Городцов несомненно участвовал в создании «Положения». Он же явно был автором и проекта «Постановления ВЦИК по охране археологических памятников», появившегося в 1922 г., уже после перехода МУЗО в лоно Главнауки (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 532; Л. 20). Ответственность за их охрану и пресечение раскопок без открытых листов возложена на губисполкомы (через отделы народного образования в их структуре). Но и этот проект (как и разработанные аппаратом МУЗО проекты постановлений по охране памятников зодчества и природы) был отложен ( Сорокина , 2015в). Представляется, что причина этого состояла в том, что в 1921–1922 гг. инициатива исходила «снизу» и была обусловлена пониманием со стороны Музейного отдела и Главнауки в целом возрастающей угрозы для культурного наследия. Но власть еще не готова была это воспринимать и действовать.
В 1923 г. ситуация изменилась: активность масс в освоении культурных ценностей на местах возрастала. Рост количества полевых работ также впечатлял: в 1921 г. они были проведены в 45 местностях, в 1922 г. – в 54 местах, в 1923 – в 124, 1924 – не менее чем в 200 (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 11. Л. 101). Необходимость принятия законодательства стала очевидной и для власти, поставившей перед Наркомпросом задачу подготовить проект нового законодательства в области охраны памятников всех видов и природной среды. Коллегия НКП в январе обязала МУЗО быстро выработать инструкцию об охране археологических памятников для представления на утверждение ВЦИК. Это поручение было успешно выполнено Археологической секцией – бывшим АПО (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 252. Л. 34).
Поскольку на археологическую службу возлагалась столь ответственная задача, определенно должен был измениться и приниженный статус соответствующего подразделения МУЗО. В начале 1923 г. Городцов разработал, можно сказать, программные документы: проект создания при Отделе музеев Центрального археологического бюро13 как основного археологического учреждения РСФСР, а также подчиненных ему местных научных обществ; «Декларацию» о значении археологических памятников и проект закона об их охране (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 234). Анализ проекта Бюро выходит за рамки данной статьи и будет дан в отдельной публикации. Отмечу лишь, что предполагалось то самое объединение всех «археологических сил Республики» (см. выше), Бюро должно было получить чрезвычайно широкие полномочия, не требующие участия РАИМК. Прежде всего это касалось выдачи открытых листов. От Академии немедленно последовали решительные протесты (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 95).
В ответ Главнаука разъяснила, что «временное учреждение при Отделе по делам музеев Центрального археологического бюро, реорганизуемого в Археологический п/отдел, никакого изменения в существовавшие до настоящего времени принципы и порядок выдачи разрешений на археологические раскопки не внесло», хотя, как будет показано ниже, это определенно было не так (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 95. Л. 11).
Бюро существовало с февраля по июнь 1923 г. и было трансформировано опять в Археологический подотдел, которым все так же продолжал руководить Городцов. Стараниями Н. И. Троцкой (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 240. Л. 43–43 об.) штаты увеличились до 4 единиц. Правда, в 1924 г. последовало сокращение до 3 (ГАРФ. Оп. 9. Д. 4. Л. 12.) Для решения важных научнометодических вопросов при АПО, как раньше при секции, должен был состоять Ученый совет. Создание его далось непросто. Коллегия НКП его утвердила и, согласно принятому тогда порядку, отправила дело на рассмотрение Государственного ученого совета14, признавшего существование его нецелесообразным, так как в собственной структуре ГУСа предполагалось учредить методическую Музейно-археологическую подсекцию15. Получалось бы дублирование функций. В результате Коллегия приняла аналогичное решение (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 240. Л. 23–26). Начавшиеся было заседания совета прекратились. Но тут потрясающую настойчивость проявила Н. И. Троцкая16, в октябре 1923 г. распорядившаяся возобновить заседания Ученого совета при АПО, но из соображений экономии средств сократить число членов до 10 и собираться не чаще чем 1 раз в месяц (Там же. Л. 27). Чем было вызвано такое сопротивление начальству? Видимо тем, что Московская секция РАИМК, часто выполнявшая роль консультативного органа для МУЗО, находилась в это время на грани закрытия, а потребность Отдела в научно-методической работе росла. Требовалось, например, давать заключения по заявкам на получение открытых листов и рассматривать научные отчеты – работа явно не уровня ГУСа. В совете остались: Ю. В. Готье, Ф. В. Баллод, А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин, А. А. Захаров, Н. И. Новосад-ский, И. К. Линдеман, сам В. А. и ученый секретарь АПО С. Г. Матвеев (Там же. Л. 6). Заседали на Берсеневской набережной, в помещении упраздненного Московского археологического общества, имущество которого перешло к Археологическому подотделу.
На первом заседании этого Ученого совета 21 июня 1923 г. В. А. Городцов представил АПО как высший административный орган, ведающий делом охраны и исследования археологических памятников на всей территории СССР, его научной разработкой и практическим осуществлением. Совет ежегодно утверждает план полевых изысканий и контролирует их, принимает решение о созыве и плане работ археологических форумов, разрабатывает законодательство по охране археологических памятников, дает заключения по заявкам на открытые листы и научным отчетам (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 241. Л. 1–2). Таким глобальным подходом основания для конфликта с Академией истории материальной культуры не только не ликвидировались, но упрочились. Выдача открытых листов продолжается без участия РАИМК. АПО берет на себя научноэкспертные функции, составляющие ее прерогативу.
Не сложился плодотворный контакт и при выработке законодательства. В июне 1923 г. на Петроградской музейной конференции член РАИМК Б. В. Фар-маковский предложил от имени Академии обстоятельный проект Декрета о «сохранении материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли» (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 95. Л. 20–21). Но, как выяснилось, то же самое сделано в АПО, и Троцкая уже внесла во ВЦИК некую Инструкцию о раскопках без предварительного обсуждения в научной среде. Очевидно, следовало бы образовать комиссию и обсудить документ с Академией, собравшей необходимые для разработки положений материалы. Сложившуюся ситуацию разрешили, включив в Ученый совет при АПО представителей РАИМК Н. Я. Марра, К. К. Романова и Б. В. Фармаковского (почти месяц спустя после его создания – ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 241. Л. 10). Они неоднократно запрашивали Отдел музеев о предоставлении проектов Положения об АПО и Ученом совете и особенно – проекта Декрета об охране археологических памятников, чтобы принять участие в их разработке, а не знакомиться с конечным вариантом. Но этот проект уже был одобрен Ученым советом в июле и только в августе послан в РАИМК.
Как бы трудно ни шла подготовка, важен результат: в январе 1924 г. принят Декрет ВЦИК и СНК «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы». В июле ВЦИК утвердил инструкцию Наркомпроса «Об учете и охране памятников искусства, старины, быта и природы»17 – подзаконный акт к Декрету. Оба документа содержат разделы, посвященные охране археологического наследия. Разработка этих законодательных актов – несомненная заслуга АПО и лично В. А. Городцова, как и их продвижение в правительство – заслуга Н. И. Троцкой. Отныне появились основания требовать от органов власти на местах пресечения как любых действий, приводящих к разрушению археологических памятников, так и раскопок без открытых листов. АПО вел обширную переписку по этим вопросам.
В «Инструкции археологическому п/отделу» от 1918 г. намечена важнейшая функция АПО: организация полевых исследований. Как главный администратор российской археологии, Городцов воспользовался своими полномочиями для создания и продвижения общегосударственного плана археологических работ. По европейской части РСФСР он был разработан уже в 1919 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1075. Л. 11–12). В дальнейшем В. А. постоянно ссылался на него как на документ, официально утвержденный Музейным отделом еще в 1920 г. В январе 1921 г. Коллегия МУЗО обсуждала этот план в связи с возможностью организовать первую экспедицию в Самарском Поволжье по заявке Общества истории и археологии при Самарском университете (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 135. Л. 4). Экспедиции состоялись: под руководством В. В. Гольмстен
(Самара) и Ф. В. Баллода (Саратов). Проекты получили поддержку РАИМК. Однако в целом реализация плана продвигалась с трудом – не было централизованного финансирования, на которое рассчитывал В. А., заявки с мест поступали совсем на другие работы и тоже должны были учитываться, так как исследования проводились на средства провинциальных музеев и обществ. В дальнейшем АПО составил проекты и сметы экспедиций в Нижнее Поволжье, Туркестан, Киргизию, Крым, на Кавказ.
К практической выдаче открытых листов Археологический подотдел приступил в 1919 г. (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 252. Л. 36–40)18. Уже сам факт возобновления этой формы регламентации полевых исследований, сложившейся еще в ИАК, свидетельствует о важной роли ее правопреемницы – РАИМК, которой самим Декретом о ее основании предписывались экспертные функции в данном вопросе. Тем же Декретом административное действие – собственно выдача документа – возлагалось на АПО. Известна общая позиция В. А. в отношении открытых листов. Как верный последователь П. С. Уваровой, он их не признавал ( Сорокина , 2014. С. 508–509). В написанной им «Инструкции» АПО они не упомянуты. Видимо, Городцов изначально предполагал ввести какую-то иную форму разрешений на полевые работы. А в том, что контроль в этой области необходим и дело не терпит отлагательств, сомнений у него не было: в АПО постоянно стекались данные о хищнических раскопках, которые по большей части производились местными краеведами. С подачи АПО Музейный отдел настоятельно требовал от своих подразделений на местах – губмузеев – следить за тем, чтобы школы не вели любительские изыскания, ставшие весьма распространенным явлением. В итоге подотдел начал выдавать именно открытые листы, но по возможности игнорируя РАИМК, что, естественно, вызывало постоянные трения. Особенно ярко это проявилось в 1923 г., когда Ученый совет при АПО на каждом заседании стал рассматривать заявки, обсуждать планы экспедиций и принимать решения без заключений РАИМК. В 1924 г. ситуация улучшилась, вновь заработала Московская секция, связи МУЗО с Академией стали более тесными. В том же году была составлена и утверждена «Инструкция о порядке выдачи открытых листов на право производства археологических раскопок», установившая согласованный подход к делу (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 10. Л. 17–17 об.).
Итоги работы АПО по учету объектов археологического наследия, представленные В. А. Городцовым в начале 1922 г., уже впечатляли: «В целях полной осведомленности о музеях РСФСР, в коих находятся археологические коллекции, составлен полный список государственных, общественных и бывших частных музеев и таким образом все музейные коллекции археологического значения находятся на учете. Организована постоянная связь с провинциальными научными обществами и учреждениями, с секциями по охране памятников, с отделами народного образования в целях планомерной работы и налаживания таким путем систематической регистрации археологических коллекций и памятников»
(ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 252. Л. 36; Жуков , 1985. С. 269). Нет сомнений, что в то время так оно и было, но следует иметь в виду, что музеев и обществ в самом начале 1920-х гг. еще немного. Количество их начинает стремительно расти после 1922 г. Соответствовать новым обстоятельствам археологическая служба в положении, в котором она пребывала с декабря 1921 г. (Археологическая секция в лице заведующего), не могла. Вероятно, и это обстоятельство способствовало возрождению Археологического подотдела в середине 1923 г.
Еще одна функция АПО – распределение коллекций по музеям19. В тесной связи с этой задачей – инструктирование и обследование археологических отделов провинциальных музеев, которое заведующий АПО проводил лично, посетив многие города Центральной России, Сибири, Крыма, Предкавказья ( Белозёрова, Кузьминых , 2015. С. 70). В 1924 г. комиссией Ученого совета при АПО составлена инструкция по организации археологических отделов музеев (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 241. Л. 25). Централизованное распределение коллекций неоднократно вызывало конфликты с местными научными обществами и музеями. Так, в конце 1922 г. разбиралось дело о раскопках профессора Саратовского университета Ф. В. Баллода, работавшего в 1921 г. на средневековых городищах в Царицынской и Астраханской губерниях на средства Татреспублики. У АПО была идея разместить коллекции в Казани. Но НИИ археологии при Саратовском университете, Саратовское общество истории, археологии и этнографии и Саратовский губмузей выразили резкий протест, полагая необходимым оставить их в Саратове (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 237. Л. 6–7). Городцов лично ратовал за перемещение в Казань, мотивируя свою позицию обеспечением лучшей сохранности (Там же. Л. 11). Но можно понять и саратовскую научную общественность.
В 1923 г. выдача открытого листа сопровождалась требованием предоставить в Центральное археологическое бюро не только отчет, но и коллекции (даже из Минусинска!). В помещении МАО на Берсеневской был создан фонд для их хранения и последующего распределения по музеям. Видимо, это не нашло поддержки у руководства МУЗО (государственные хранилища и так были переполнены с 1918 г.), и в дальнейшем Отдел требует только контроля со стороны своих подразделений на местах над передачей находок в провинциальные музеи (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 237).
Особенно деликатно следовало подходить к урегулированию отношений в области организации экспедиций и хранения коллекций с автономными республиками и областями, поскольку финансирование полевых работ часто шло через местные органы власти и музеи, желавшие, естественно, хранить коллекции в регионе. В начале 1924 г. Ученый совет при АПО обсуждал возможность согласования вопроса с автономиями и вынесения его на правительственный уровень (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 241. Л. 24–25).
В краткой статье описать все аспекты работы Археологического подотдела невозможно. Но хотелось бы остановиться еще на одном. С самого начала составлялись списки памятников археологии, подлежащих особой охране как наиболее ценные в археологическом отношении (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 10. Л. 21–21 об.). Как отдельные памятники, так и территории их компактного расположения усилиями АПО были объявлены археологическими заповедниками. Уже в 1921 г. по ходатайству Археологической секции перед руководством МУЗО объявлены заповедными Закаспийская область, Минусинская котловина, Старая Рязань (Белозёрова, Кузьминых, 2015. С. 41). К 1924 г. таких заповедников было 33 (в Центральной России, Крыму, Туркестане и др. регионах).
В конце 1925 г. в структуре Музейного отдела наметились изменения. Вместо Ученого совета была создана Методическая комиссия по археологии. В 1926 г. в ней состояли: В. А. Городцов (председатель), Н. И. Новосадский, Б. С. Жуков, А. А. Спицын, Н. Я. Марр, Б. В. Фармаковский, Н. А. Рожков и Н. Д. Протасов (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 614. Л. 86–87). Аналогичные по функциям комиссии появились и при других подразделениях МУЗО. Задачи археологической комиссии на 1925–1926 гг. определялись так: разработка методов археологических раскопок; принципов составления археологических карт; общих задач археологических совещаний и съездов; методов и форм научной отчетности по археологическим раскопкам; координация археологических исследований с работой музеев и краеведческих обществ; составление общего плана и определение задач археологических исследований в Сибири; составление плана археологических исследований в РСФСР на 1926 г. «с точки зрения соответствия современным методам и общим задачам археологии»; «оценка методических и технических достижений в области исследования древнейших материальных культур за годы революции» (Там же. Л. 117–119). Масштабные планы, составленные явно с использованием наработок Городцова. Сам он, однако, в октябре 1926 г., после Керченской конференции, в организацию и проведение которой внес большой вклад, покинул административное поприще и ушел из Главнауки. Это знаменовало начало нового этапа деятельности археологической службы. Археологический подотдел в прежнем виде перестал существовать. Настало время новых лиц и новых концепций.
Список литературы Археологический подотдел в системе Наркомпроса (1918-1926 гг.)
- Белозёрова И. В., Кузьминых С. В., 2015. Жизненный и научный путь В. А. Городцова (по архивным документам и воспоминаниям)//Василий Алексеевич Городцов: Дневники 1928-1944. Кн. 1: 1928-1935/Отв. ред.: П. Г. Гайдуков, А. Д. Яновский. М.: Триумф принт. С. 12-72.
- Жуков Ю. Н., 1985. Неизвестный документ о деятельности В. А. Городцова//СА. № 4. С. 268-271.
- Платонова Н. И., 2010. История археологической мысли в России. СПб.: Нестор-история. 314 с.
- Сорокина И. А., 2014. Организация российской полевой археологии в первые годы после двух революций (1917-1920 гг.)//Российский археологический ежегодник. Вып. 2. СПб.: Университетский издательский консорциум. С. 499-514.
- Сорокина И. А., 2015а. Археология в законодательстве первых десятилетий советской власти//Известия Самарского научного центра РАН. Т. 17, № 3, ч. 2. С. 587-591.
- Сорокина И. А., 2015б. Государственная система управления культурным наследием и наукой в 1921-1925 гг.//Очерки истории отечественной археологии. Вып. IV/Отв. ред.: П. Г. Гайдуков, И. В. Тункина. М.: ИА РАН. С. 119-135.
- Сорокина И. А., 2015в. Московская секция Академии истории материальной культуры//КСИА. Вып. 240. С. 328-340.
- Сорокина И. А., 2015г. Регламентация полевых исследований в первое десятилетие советской власти -поиск решений//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 7. Липецк: ЛГПУ. С. 107-117.
- Фармаковский Б. В., 1921. К истории учреждения Российской академии истории материальной культуры. Пг. 10 с.