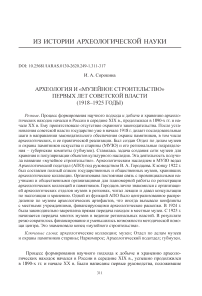Археология и "музейное строительство" первых лет советской власти (1918-1925 годы)
Автор: Сорокина И.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Из истории археологической науки
Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Процесс формирования научного подхода к добыче и хранению археологических находок начался в России в середине XIX в., продолжился в 1890-х гг. и начале XX в. Ему препятствовало отсутствие охранного законодательства. После установления советской власти государство уже в начале 1918 г. делает последовательные шаги в направлении законодательного обеспечения охраны памятников, в том числе археологических, и ее практической реализации. Был создан Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины (МУЗО) и его региональные подразделения - губернские комитеты (губмузеи). Ставилась задача создания сети музеев для хранения и популяризации объектов культурного наследия. Эта деятельность получила название «музейное строительство». Археологическим наследием в МУЗО ведал Археологический подотдел (АПО) под руководством В. А. Городцова. К концу 1922 гбыл составлен полный список государственных и общественных музеев, хранивших археологические коллекции. Организована постоянная связь с провинциальными научными и общественными организациями для планомерной работы по регистрации археологических коллекций и памятников. Городцов лично знакомился с организацией археологических отделов музеев в регионах, читал лекции и давал консультации по экспозиции и хранению. Одной из функций АПО было централизованное распределение по музеям археологических артефактов, что иногда вызывало конфликты с местными учреждениями, финансирующими археологические раскопки. В 1924 гбыла законодательно закреплена прямая передача находок в местные музеи. С 1925 г. начинается передача многих музеев в ведение региональных властей. В результате резко сократилось финансирование и уменьшились возможности методической помощи центра. Это знаменовало конец «музейного строительства».
Археологические коллекции, музеи, отдел по делам музееви охраны памятников старины, наркомпрос, археологический подотдел, губмузеи
Короткий адрес: https://sciup.org/143163981
IDR: 143163981
Текст научной статьи Археология и "музейное строительство" первых лет советской власти (1918-1925 годы)
Процесс формирования научного подхода к добыче и хранению археологических находок начался в России в середине XIX в., успешно продолжился в 1890-х гг. и начале XX в. Были написаны первые руководства, положившие начало научному подходу к формированию археологических коллекций, обеспечению их сохранности и разработке принципов музейного хранения и экспонирования (А. А. Спицын, Д. Я. Самоквасов, В. А. Городцов). Эти же вопросы обсуждались на XIV Археологическом съезде в 1908 г. Однако до полного понимания проблем сохранения археологического наследия, в частности коллекций, было еще очень далеко. Главным препятствием, безусловно, являлось отсутствие охранного законодательства. Но значительную роль играл и тот факт, что менталитет общественности, увлеченной археологическими изысканиями, еще не сформировался должным образом, а профессиональных ученых-археологов было мало.
После октябрьских событий 1917 г. в деле изучения и сохранения археологического материала наметился перелом. Появились новые возможности, ранее немыслимые при наличии частной собственности на землю и находимые в ней археологические артефакты. Советское государство уже в начале 1918 г. делает последовательные шаги в направлении законодательного обеспечения охраны памятников, в том числе археологических, и практической реализации этого законодательства1. Проведение новой политики в этой области возлагалось на Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины (МУЗО) – учреждение в системе Народного комиссариата по просвещению РСФСР (Наркомпрос). В его задачи входило создание Музейного фонда и разветвленной сети музеев для хранения и популяризации объектов культурного наследия. Эта деятельность получила название «музейное строительство». Для работы с археологическим наследием в МУЗО был создан Археологический подотдел Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при Народном комиссариате по просвещению РСФСР (АПО), руководил которым с 1918 по 1926 г. один из крупнейших археологов того времени В. А. Городцов ( Сорокина , 2016). Рассмотрим меры в отношении археологических коллекций, принятые им на посту главного администратора-археолога Советской России. Представляется, что в достижении положительной динамики огромную роль сыграл опыт Городцова как музейного работника. Все время нахождения его на этом посту основным местом работы его оставался ГИМ2.
В апреле 1918 г. Городцов пишет (а МУЗО утверждает) «Инструкцию археологическому П/отделу Отдела Музеев и Охраны памятников искусства и старины» (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 4. Л. 1–1 об.), согласно которой АПО обязуется: составить полные списки «всех музеев и собраний правительственных и частных, включающих в свой состав предметы отечественной археологии»; «заботиться о развитии деятельности существующих и вновь возникающих музеев <…>, помогая им: а) в приобретении археологических памятников (так В. А. обозначал археологические артефакты. – И. С.) в оригиналах и копиях; б) в правильном размещении и хранении памятников». Этот основополагающий доку- мент определил проводимую Городцовым политику централизации контроля за распределением находок по региональным музеям на годы.
Принятые до 1924 г. законодательные акты, имеющие отношение к археологическим артефактам:
-
1. Декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» от 05.10.1918. (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР, 1918. № 73. Ст. 794). Специальных пунктов об археологическом наследии Декрет не содержит, но предусматривает «первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины», возложенную на Музейный отдел Наркомпроса. Археологические коллекции вполне подпадают под это определение.
-
2. Декрет «Об охране научных ценностей» от 05.12.1918 (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР, 1918. № 90. Ст. 216), учет которых «в целях охраны и предотвращения возможного уничтожения научных музеев и коллекций» должен был производить Научный отдел Наркомпроса в тесном контакте с МУЗО (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 2. Л. 125). Впоследствии функции, касающиеся археологии в музеях (не только научных), были переданы под контроль МУЗО, в рамках которого ими ведал Археологический подотдел.
Остро встал вопрос об обеспечении реализации этих мероприятий на местах. Музейный отдел озаботился проблемой в конце 1918 – начале 1919 г. Были созданы губернские подотделы по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при отделах народного образования губернских органов власти, после реформы Наркомпроса в 1921 г. реорганизованные в комитеты (губ-музеи). Они выполняли на местах функции МУЗО под его же руководством. Их задачи: организация музеев, обследование, регистрация и охрана памятников, собирание художественных и культурных ценностей (Там же. Оп. 8. Д. 252. Л. 48). Изначально предполагалось привлечение специалиста в области музейного дела, художника, архитектора, археолога (!), историка. Губмузеи ведали и всеми археологическими раскопками, разрешение на которые выдавал АПО. Деятельность и роль губмузеев заслуживает отдельного исследования. Отметим лишь, что, как сказано в одном из отчетов МУЗО, «благодаря своевременному созданию подотделов на местах было спасено для Республики громадное художественное достояние и упорядочено музейное строительство в провинции» (Там же).
Археологический подотдел оказался в центре того направления «музейного строительства», которое было связано с археологией. В. А. Городцов неукоснительно следовал своему плану 1918 г. Его работоспособность поражает. К концу 1922 г., согласно отчету АПО, был составлен полный список государственных и общественных музеев, где обнаружились археологические коллекции. Организована постоянная связь с провинциальными научными обществами и учреждениями, с секциями по охране памятников и с отделами народного образования в целях планомерной работы и систематической регистрации археологических коллекций и памятников. Городцов лично знакомился с организацией археологических отделов музеев в регионах. Посещая их, он читал лекции и давал кон- сультации по экспозиции и хранению. Так, в 1920 г. он был командирован Музейным отделом с указанными целями в Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самару, Саратов (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 114). В 1923 г. последовала командировка в Крым и на Тамань; в 1924 г. – в города Западной Сибири.
Итак, определенные властью задачи начали претворяться в жизнь. Но в 1921–1922 гг. после реформы Наркомпроса вместо подотдела осталась только Археологическая секция в составе Отдела учета МУЗО. Штаты сократились до одной единицы – самого заведующего. В 1923 г. стала очевидна необходимость реформирования археологической службы, неспособной контролировать резко возросший объем полевых исследований и поток археологических коллекций. В этих условиях Городцов выдвигает проект создания при Музейном отделе Центрального археологического бюро (ЦАБ) под своим руководством, координирующего все полевые работы и размещение археологических материалов. Развернутый анализ проекта ЦАБ и его практической реализации, начавшейся в феврале 1923 г., – отдельная задача. Но важно понять, как В. А. представлял себе судьбу археологических коллекций в связи с этим проектом и после закрытия ЦАБ в июне этого же года и возрождения АПО. Позиция его в вопросе музейного строительства в целом и работы с археологическими коллекциями в частности, естественно, не осталась без внимания исследователей его деятельности3.
В свое время одной из функций Императорской археологической комиссии было распределение по музеям археологических находок, для чего требовалось присылать их на рассмотрение ИАК. Наиболее выдающиеся отправляли в центральные музеи, остальные – на места. Будучи приверженцем традиций Московского археологического общества, Городцов неоднократно и резко критиковал ИАК за монополизацию выдачи открытых листов, но, став главным администратором российской археологии, выбрал такой же курс. То же и с коллекциями. По его мнению, наиболее значимые следовало отправлять в центральные или в крупные региональные музеи. Иной раз на этой почве возникали конфликты с региональными учреждениями. Так, в начале 1920-х гг. известный исследователь В. Ф. Баллод работал в Царицынской и Астраханской губерниях на средства Татреспублики. АПО (т. е. Городцов) предполагал разместить коллекции в Казани или Астрахани, так как там уже были известные музеи. Логика понятна. Но этому яростно воспротивились НИИ археологии при саратовском университете, Саратовское общество истории, археологии и этнографии и Саратовский губмузей. Коллекции предлагалось оставить в Саратове именно как основу развития там музейного дела (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 237). Аналогичный конфликт возник также в связи с раскопками Афонтовой горы в Красноярске. С 1923 г., когда экономическая ситуация в РСФСР стала улучшаться, количество полевых исследований (и, соответственно, приток археологических артефактов) резко возросло. И ЦАБ и АПО, выдавая открытые листы, требовали представлять в Москву находки вместе с дневниками раскопок (Там же). Это касалось даже сотрудников центральных музеев (ГИМ, Русский музей). В рамках проекта
ЦАБ судьбу коллекций должны были решать ежегодные археологические съезды (Там же. Д. 234. Л. 12–12 об.).
В конце 1923 г. позиция Музейного отдела (но не лично В. А. Городцова) меняется. Это, вероятно, связано с осознанием того, что ограниченный в штатных и финансовых возможностях административный орган не сможет контролировать ситуацию с коллекциями на территории огромной страны и нужна передача некоторых полномочий на места. В декабре МУЗО рассылает циркуляр, предписывающий губисполкомам и облисполкомам «следить, чтобы все находки, клады и отдельные предметы, случайно обнаруживаемые при земельных работах или на поверхности земли при осыпях, размытии и проч., были сдаваемы в ближайшие государственные музеи» (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 48. Л. 8–8 об.). Этот принцип закреплен в Декрете ВЦИК и СНК «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы» от 07.01.1924 (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР, 1924. № 18. Ст. 179). АПО, судя по документам, продолжает и далее распределение коллекций по музеям (по согласованию с МУЗО), но этот процесс переходит в виртуальную плоскость. Доставка находок в Москву и отбор лучших уже не требуется, хотя сам В. А. и в 1925 г. считает систему, принятую в ИАК, предпочтительной (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 115). В большинстве случаев находки попадают в музеи или по месту раскопок, или по месту финансирования региональными учреждениями. Но изменить этот порядок нельзя, так как бюджетные средства на полевые работы не выделяются.
Важнейшей работой АПО оставалось обследование музеев на предмет размещения и хранения археологических коллекций. Для этого в 1924 г. комиссией, созданной Ученым советом при АПО (В. А. Городцов, В. Ф. Баллод, С. Г. Матвеев), составлены «основные положения организации археологических отделов музеев» (ГАРФ. Оп. 9. Д. 10. Л. 46–46 об.). В дальнейшем эта деятельность продолжилась в 1925 г. в рамках Археологической комиссии Научной музейно-библиотечной секции Государственного ученого совета.
Осенью 1925 г. принят Декрет ВЦИК и СНК «О передаче в ведение местных исполнительных комитетов музейных и художественных учреждений местного значения» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1925. № 64. Ст. 511). В результате, во-первых, резко сократилось финансирование – тощие местные бюджеты не выдерживали такой нагрузки; во-вторых, уменьшились возможности методической помощи центра. Произошла как бы сортировка музеев и коллекций, в том числе археологических. Испытывали трудности и губмузеи: штаты и раньше были вечно не укомплектованы из-за нехватки средств. С 1925 г. начиналось активное вмешательство в их деятельность Главполитпросвета, и с 1926 г. в ряде мест их работа сворачивается, что крайне негативно повлияло на охрану культурного наследия и свело на нет многие достижения «музейного строительства». Именно с этого времени многие местные музеи были или закрыты, или перепрофилированы на демонстрацию достижений революции, или обречены на прозябание.
Список литературы Археология и "музейное строительство" первых лет советской власти (1918-1925 годы)
- Кузьминых С. В., Белозерова И. В., 2012. В. А. Городцов об идеальном типе археологических музеев и единой системе экспозиции археологических памятников//Образы времени: из истории древнего искусства. М.: ГИМ. С. 22-34. (Труды ГИМ; вып. 189.)
- Равикович Д. А., 1970. Охрана памятников истории и культуры в РСФСР (1917-1967)//Труды Научно-исследовательского института музееведения и охраны памятников истории и культуры. Вып. 22. М. С. 3-127.
- Сорокина И. А., 2016. Археологический подотдел в системе Наркомпроса (1918-1926 годы)//КСИА. Вып. 245. Ч. 1. С. 244-256.