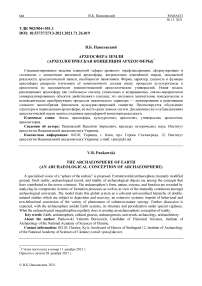Археосфера земли (археологическая концепция археосферы)
Автор: Панковский В.Б.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Специализированное видение планетной «сферы древнего» отрефлексировано, сформулировано и соотнесено с концептами внеземной археосферы, антропогенно изменённой тверди, ископаемой реальности, археологической записи, всеобщности памятников. Форма, характер, сущность и функция археосферы раскрыты изучением её компонентного состава ввиду процессов культурогенеза и археогенеза во всеохватности взаимоотношений археологических универсалий. Новая модель рассматривает археосферу как глобальную систему упокоенных и возвращаемых, связно-иерархически универсализированных объектов двойственного генезиса; это системное запечатление поведенческих и неповеденческих преобразующих процессов циклического характера - депонирования и реактивации сложного многообразия феноменов культурно-природной синергии. Прогнозируется обсуждение структуры и периодизации археосферы, её места среди земных систем. Дисциплины же и субдисциплины археологической науки заняты созданием археосферной концепции реальности.
Земля, археосфера, культурогенез, археогенез, универсалии, археология, археоистория
Короткий адрес: https://sciup.org/14123580
IDR: 14123580 | УДК: 902/904+551.1
Текст научной статьи Археосфера земли (археологическая концепция археосферы)
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
Суть дела
«Major e longinquo reverentia» — сказал бы Тацит (Ann., I, 47), доведись ему интересоваться историей понятия «археосфера». Известно ведь, что автор термина (Capelotti 2009) отнёс к археосфере места мягких и жёстких посадок космических аппаратов на Марсе и на Луне, где, кстати сказать, есть и ударный кратер с когноменом автора «Анналов».
Итак, поначалу археосфера означала приметы людской деятельности у далёких пределов антропосферы, на поверхностях небесных тел. Недавно оформилось также земное межсферное понимание археосферы как объекта междисциплинарных исследований (Edgeworth et al. 2015: 54; Edgeworth 2017). При этом область интересов, пределы компетенции и характер связей собственно археологии в изучении этого планетного явления по-прежнему нуждаются в основательной проработке, а без целостной и обстоятельной отраслевой концепции археосферы здесь никак не обойтись. «Отраслевой» не означает «узкой», «выборочной» или «частной»; лучше сказать «специальной», так как концепция призвана отвечать как давно очевидным, так и едва зародившимся запросам археологии и, вместе с тем, обогащать общенаучное понимание археосферы и теорию земных систем в целом.
Подступы к такой концепции и представлены ниже. Представлению предшествовало исследование. Его цель — выработка концепции — достигалась путём сближения теоретической археологии и междисциплинарной теории земных сфер. Далее следует особым образом сфокусированное толкование нескольких специализированных трудов, выполненное с намерением актуализировать, предуготовить и сформулировать проект археологической концепции археосферы Земли. Взят, разумеется, лишь минимально необходимый базис подходящих работ, идей и постулатов, тогда как всякому повторному обращению к проблеме надлежит осваивать куда более пространное мыслительное изобилие мирового археологизирования.
Космическая концепция
Первоначально археосфера определялась, во-первых, как область интересов аэрокосмической археологии и, во-вторых, как пространство и пункты её исследований. Такое двоякое понимание (Capelotti 2009: 855—866) представляется весьма глубокомысленным и действенным. Так, предметная познаваемая сторона упомянутой области интересов — это сама разумная жизнь, в т. ч. людская за пределами Земли; орбитальная археология именует себя археологией разумной жизни. Объектную же сторону составляют источники знаний о разумной жизни вкупе с методами их обнаружения, опознания и изучения.
Пространство археосферы — Вселенная. Вселенная вмещает археосферу. Элементарной единицей археосферы выступает археологическое запечатление (примета, знак) разумной жизни. Археосфера структурируется по уровням наблюдения запечатлений (местонахождение, район, планета, галактика), а также в стратиграфическом отношении — на поверхностную, приповерхностную и глубинную (подземную, подводную).
Земная археология занята депозитами. Но учитывая поистине вселенские измерения пространственно-временного контекста археосферы, а также специфику приёмов наблюдения и контроля, для постижения её двойственной сущности критически важны как всякое запечатление, так и всякое прямое, длящееся свидетельство разумной жизни. И если запечатление — это понятийное детище и облюбованный объект аэрокосмической
МАИАСП № 13. 2021
археологии, то её материнская дисциплина — астробиология (экзобиология) — интересуется именно свидетельствами (контактами, визитами, действующими аппаратами и прочими активными артефактами разумной жизни), особо не акцентируя свойства отложения, упокоения и, если угодно, ископаемости. Тем более примечательно, что, в силу пространственно-временных свойств необъятного, моделирование возможностей обнаружить запечатления и свидетельства с необходимостью оперирует не чем иным, как стадиями технологического развития и культурной эволюции! Да-да, Азимов следовал Чайльду. Стадиальное ранжирование применяется потому, что поступление реальных запечатлений и свидетельств разумной жизни, различимых средствами дистанционного зондирования, можно ожидать только со стороны высокотехнологических внеземных цивилизаций — былых и нынешних. Весьма отдалённые охотники-собиратели и земледельцы-скотоводы — былые и нынешние — не могли и не могут явить себя в поле земного восприятия. Как бы то ни было, сама идея о давно или недавно отживших цивилизациях, способных, наряду с предполагаемыми ныне существующими, оставить доступные знаки и руины, подразумевает отжившее и депонированное состояние запечатлений, т.е. археосферу.
Безмолвно-непроницаемое громадьё искусственной биосферы Дайсона, буде в таковой иссякнет жизнь, как раз и составило бы лабораторную модель археосферы, модель субгалактического ранга, внутри замкнутости которой формировались бы и откладывались запечатления былых деяний. Земные мерила времени-и-пространства к этим запечатлениям не вполне применимы. Конечно, по данным орбитальных и наземных инструментов, работающих с различными видами электромагнитного излучения, обе археологии, земная и аэрокосмическая, формируют образы артефактов и структур в контексте местонахождений, как регулярно делается в реальном времени с заброшенными и погребёнными объектами на Земле. Речь идёт о производимых дистанционными и контактными методами фотограмметрии и магнитометрии, георадарном сканировании и зондировании, измерении электрического сопротивления грунтов (Rączkowski 2012: 376— 389) . Но к археологическим запечатлениям (sic!) относят и тёмную область пространства , где, по предположению, излучение центральной звезды некой планетной системы всецело поглощается (поглощалось) некой артефактной дайсоновой сферой. Логически мысля, опознавательным свойством подобного запечатления, если не самим запечатлением, следует считать радиоизлучение , маркирующее тёмную область, независимо от того, жива она или мертва в любой из моментов земного времени. Таким образом, достигающие земных телескопов радиовсплески, понимаемые в экзобиологии как сигналы, сообщения, т.е. свидетельства , на деле представляют собой всё те же волновые запечатления , знаки : их источники или уже угасли, или, по допущению, изменились до неузнаваемости. Такую вот пограничную, переходную сущность свидетельств и запечатлений выражает нейтральный термин показатель разумной жизни; он, к тому же, гибко приспособлен к обсуждению всякого рода мнимых индикаторов, а также естественных средовых показателей (маркёров) пригодности локуса для жизни. На функциональном же уровне трактовка предельно конкретна: радиоволновые передачи суть возможные эманации самой разумной жизни, тогда как зримые структуры — её продукт, но не она сама. Под структурами понимаются не только сооружения ; это также следы (отпечатки) и остатки некой регулярной конфигурации. Другое дело — поиск сравнительных экспертных доводов за и против принадлежности той или иной структуры к артефактам разума.
Космическая археосфера (дословно «изучаемая археосфера») обособлена в пространственном и средовом отношениях от сфер Земли: она далека (Capelotti 2009: 862,
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
-
864) . Она отдельна от окружения по природе и составу. Это наводит на мысль, что во всяком биосферно-литосферном (а также гидро- и атмосферном) контексте памятники разумной жизни подлежат обособлению концептуальными и классификационными средствами от иных планетных сфер.
Стало быть, археосфера есть и на Земле? Есть, и об этом — в следующем разделе. Здесь же важно уловить и усвоить уроки аэрокосмической концепции. Итак, археосфера
-
• наделена пространственно-временной протяжённостью,
-
• характеризуется собственной специфической топографией,
-
• иерархически структурирована и
-
• представляет собой ресурс археологических источников к познанию былых цивилизаций.
Концепция археосферы пользуется технологической стадиальной периодизацией и, с другой стороны, расположена устанавливать локальные культурно-хронологические секвенции археологических общностей.
Геостратиграфическая концепция
Археосфера осмысляется в археологии, геологии и почвоведении в связи со стратиграфическими критериями антропоцена. Антропоцен, по мнению ряда исследователей, — это геологическая эпоха, в которой воздействия человека на земные системы приобрели глобальный размах (обзор см.: Braje 2015). Согласно другим специалистам, антропоцен не является геологической эпохой, так как рассредоточен во времени и не выражен самостоятельными собственно геологическими отложениями (Edgeworth et al. 2015: 33, 34, 53). Археосфера же понимается как видоизмененные человеком отложения, антропогенно преобразованная твердь верхней части геосферы (Edgeworth et al. 2015: 35, 36, 53-54), где «верхняя часть геосферы» означает приповерхностные и поверхностные отделы литосферы и педосферу. У археосферы, в таком понимании, имеется нижняя твердо-, газо- или жидкофазная граничная поверхность, или Граница А, отделяющая её от природных отложений — граница диффузная, ступенчатая, перемешанная. В Восточной Азии она известна как несогласное напластование Жэньцзы (Edgeworth et al. 2015: 35—36, 48, 54, fig. 1).
К началу дискуссии о стратиграфии антропоцена геологи уже давно распознавали искусственную (антропогенную) твердь. С точки зрения специалистов по археосфере (Edgeworth et al. 2015: 36), в археологии представления о ней и её нижней границе сложились в учения о культурном слое и процессах образования, отразившись в терминах «поверхность природного», «материк». Принимая во внимание комбинирование методов и понятий археологии, геологии и почвоведения, а также экологии, в осмыслении пограничного, межсферного характера археосферы и её границы (Edgeworth et al. 2015: 34—35, 39, 44), нетрудно заметить, что в рассматриваемой концепции как таковой, а также в выборе идей, понятий и терминов, называемых предтечами, положительно преобладает геостратиграфическое видение с нацеленностью на антропогенно преобразованную твердь. Она — вмещающая среда для всяческих рукотворных включений; она и есть археосфера. Факторами её формирования являются, прежде всего, стимулируемые человеком межслойные взаимодействия. Она результируется как материальная остаточная часть техносферы или антрозоны (Edgeworth et al. 2015: 34, 36, 39, 43; Edgeworth 2017).
На этом обзор археосферы с позиций геостратиграфии прерывается. Но к нему понадобится обратиться ещё не раз при обсуждении археологической концепции.
МАИАСП № 13. 2021
Предпосылки собственно археологической концепции
Рассмотренные концепции уже содержат элементы и отношения, необходимые и полезные для построения отраслевой археологической концепции археосферы Земли, хотя ни первая, ни вторая таковой не являются. Обе воздерживаются от ввода археосферы в ряд земных систем с позиций теоретического самоопределения археологии. Археологическое исследование, тем временем, исходит из того, что совокупный источник происхождения ископаемых реалий включает:
-
• человека современного биологического вида с его ископаемыми предками — индивидуальных и собранных в популяции освоителей Земли,
-
• общество как форму освоения и адаптации,
-
• культуру как видовое приспособительное свойство информационно-нормативного межпоколенного характера и
-
• земные системы, составляющие среду освоения и адаптации.
Всё это не что иное, как компоненты антропосферы — сложной открытой системы человеческого на Земле. Подобные специфические компоненты археосферы как раз и следует отыскать, прежде чем соотносить её с главными геосферами и их компонентами. Можно выразиться и по-другому: соотнесение станет возможным при наличии системного представления о сущностной форме, внутреннем характере, собственной сущности и функции археосферы.
О зыбких, лежалых и твердокаменных
Литостратиграфическое понимание археосферы в составе более крупных единиц обусловило анализ частей , слагающих её и входящих в её состав, но не компонентов . Во всяком случае, понятие своего рода веществ археосферы , в развитие взглядов В.И. Вернадского, пока не выработано.
К частям археосферы, если обобщить упоминания (Edgeworth et al. 2015: 36, 40, 52), относятся:
-
• антросолы, техносолы, пахотные земли;
-
• сосредоточенные отложения населённых пунктов;
-
• свалки;
-
• дорожные и береговые покрытия, насыпные конструкции;
-
• полостные и объёмные объекты в земной тверди.
Артефакты же и некоторые компактные (сравнительно с отложениями) материалы занимают иное место в геостратиграфических воззрениях. Подобно руководящим ископаемым, технофоссилии служат граничными и внутренними указателями, чем и определяется их группирование. С одной стороны, они предстают разновидностями технологического вещества (керамика, металлы, химические удобрения, пластик, радионуклиды). Тогда, независимо от форм и назначения предметов (если это предметы), они маркируют послойные границы важнейших технологических фаз антропоцена внутри археосферы (Edgeworth et al. 2015: 42, 43, 44, 53). С другой стороны, артефакты (напр., орудия) и конгломераты технологического вещества (напр., мусор) рассматриваются отвлечённо от их материала как привнесенные включения и приметы археосферы и её частей (напр., антросолов) (Edgeworth et al. 2015: 36, 39, 43). Маркёры (эпохально значимые вещества) и приметы (по свойству рукотворности), считаясь содержимым археосферы, не считаются её частями. Учитывая длительность фаз антропоцена и разновременное продолжительное внедрение древнейших рубежных достижений (земледелия, керамики и металлопроизводства), геостратиграфическая концепция не нуждается в утончённом анализе артефактов для расстановки стратиграфических границ: достаточно опознать руководящее технологическое вещество отложений известного
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
генезиса, а последовательности и датировки эпохальных сдвигов заимствуются из региональных культурно-хронологических схем. Не случайно значимость свойств и признаков керамики оценивается по возможности применить их для датировки и сравнения отложений (Edgeworth et al. 2015: 42). Артефакты, сооружения, фаунистические и растительные остатки, состав и культурное структурирование отложений мыслятся индивидуальными и согласуемыми маркёрами археосферы, которые могут выносится за её пределы естественными процессами (Edgeworth et al. 2015: 52), и тогда они, следственно, уже не являются ни маркёрами, ни приметами. Людские останки — органический «палеонтологический» маркёр. Правда, они привычно концентрируются и пространственно организуются, внося регулярность в нижнюю границу археосферы, сопрягая артефакты и образуя особые смешанные феномены, где технофоссилии, иногда токсичные для среды, совмещены с останками в виде протезов, имплантов и пломб1 (Edgeworth et al. 2015: 44, 52).
Это очень добротное и ясное, но, конечно, не единственно возможное видение. Археология выработала и другие, выводящие, пусть и не напрямик, а с уточнениями и дополнениями, на компоненты археосферы.
Ископаемая реальность
Для начала — материал, близкий восточноевропейским исследователям.
Как фундаментальную теоретическую проблему Ю.Н. Захарук (1975а; 1975б; 1976; 1978; 1990) рефлексировал природу и статус археологической культуры. Искомость категорийного статуса разумелась как выбор между объективным существованием и функцией познавательности. Природа археологической культуры — это единство её генезиса, сущностной формы, внутреннего характера и познавательной функции, отличающих её от собственно культуры .
Ю.Н. Захарука заботил домен археологии как исторической науки с её предметом, источниками и методами, которые негоже рассеивать, туманить и раздавать, а напротив — надлежит сплачивать, очищать и хранить. Ему чуждо представление археологической культуры в виде многообразной целостности традиционной культуры, а точнее — в виде той крупной порции традиционной культуры, которой занимается археология (меньшая — за этнографией). Годится ли всерьёз уравнивать то, что могут наблюдать и этнограф, и археолог, и то, что ни археолог, ни этнограф наблюдать не могут? Культура 1975 г. до н.э. познаваема, но не наблюдаема, культура 1975 года н.э. наблюдаема и познаваема. Археологическая культура Ю.Н. Захарука — понятие систематизационное и процедурное; это не культура. Отсюда и вопрос о природе археологической культуры, а на деле, исходно — о природах двух действительностей.
(В раннем тезисном нарративе наблюдения нет. Сказано, что культура и общество в природном окружении суть предметы познания тогда, когда доступны познанию непосредственно в настоящем (Захарук 1975б: 13). Так как настоящему противоположено будущее, можно было бы счесть это суждением о непредметности и непознаваемости того, что не есть действительность. Однако рядом, заодно, пристроились культура, общество и природа прошлой действительности; чем не предметы познания, если они познаются, и на то есть археологическая культура (Захарук 1975б: 14)? Отсюда и дополнение: непосредственная доступность познанию предполагает наблюдение действительности, тогда как ненаблюдаемая прошлая действительность познаётся по следам и останкам (ср.: Захарук 1976: 7; 1978: 53). Принимая такую интерпретацию, в целях данного исследования можно
МАИАСП № 13. 2021
впредь не отвлекаться на нескладности, повсеместно ожидающие специалиста, заранее не осведомлённого об особенностях прочтения онтологического и гносеологического в трудах Ю.Н. Захарука. Сказанное не означает, что ситуация теперь уже вовсе не заслуживает внимания; анализ противоречий и следствий применительно к проблематике археологической культуры см., напр., в Клейн 1991: 180—183; 2012: 285, 286).
Итак, согласно Ю.Н. Захаруку, историческая действительность есть особая динамическая система с тремя структурными феноменами (компонентами). Это:
-
• культура — человеческая деятельность с её результатами,
-
• общество и
-
• природа, т.е. собственно natura.
И вот, некая системная действительность более не наблюдаема. Человек, общество и натура пока отступают на задний план: теперь в основном обсуждается культура — как культура , — и вводится понятие второй действительности.
Это ископаемая действительность — наблюдаемая, объективированная совокупность (агрегат) следов и останков культуры исторической действительности прошлого (= с. и о. прошлого). Любая обособленная единица из числа этих феноменов есть археологический объект; стало быть, и некое множество (не совокупность!) следов и останков можно называть археологическими объектами.
Само же ископаемое категоризируется надвое.
-
(1) Археологическая культура — исследованная, научно зафиксированная и систематизированная совокупность источников познания исторической действительности прошлого в трёх её компонентах. Источники эти исторические, но особые — ископаемые вещественные.
-
(2) Непоименованная категория — неисследованная часть, резервуар объектов.
В категории «следы» (опять категория; это, как видно, стационарные объекты) различимы две субкатегории, где сравнительно обширное включает то, что помельче:
|
следы |
останки |
|
|
памятники или местонахождения |
[следовые] объекты |
предметы изделия |
|
поселения могильники |
жилища погребения хозяйственные сооружения культовые сооружения |
|
Останки же (объекты движимые) «в органическом и функциональном единстве» распознаются как комплексы (комплексы останков!); соотношения комплексов со следами и субкатегориями следов не специфицированы, но это было бы уместно сделать, в частности, с погребениями. Акцентируется другое свойство следов: многокомпонентные, накопительные памятники характеризованы как компрессивные объекты, хотя компрессии подвержены следы и останки в целом. Поэтому археологический универсум и определяется как результирующая совокупность памятников или же глобальная суммативная система следов и останков, где самое раннее соотносится с предками современного человека, а позднейшее — средневековое (Захарук 1976: 8). Следуя представленной выше дихотомии, ископаемая действительность всё же получается шире универсума, который не есть целостная данность древностей, но суть добытый и систематизированный источник (Захарук 1975б; 1976: 8;
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
1978: 49, 54), своего рода глобальная археологическая культура (Захарук 1975б), хотя иные прочтения склонны отождествлять ископаемую реальность и универсум (напр., Классификация 2013: 12). Вмещающая среда понимается как условия естественного залегания: ископаемая реальность in toto обособлена в них и от них по природе, а конкретно универсум необходимо извлечён и препарирован. Рядом залегли «палеонтологические» и «палеоантропологические» объекты — следы и останки природной среды и общества, не принадлежащие ископаемой реальности, можно сказать — универсумы других наук в помощь археологии (однако в Захарук 1978: 50 они прямо названы принадлежащими ископаемой действительности; см. тж.: Захарук 1964: 20, 23—24).
Генезис археологической культуры связывается с прекращением культурной деятельности. Хорошо. Но объяснять, что археологическая культура лишена деятельности, динамичности и развития — это ли уместный дидактический приём? С одной стороны, указанием на отсутствие он аналогизирует археологическую культуру с той самой культурой настоящей действительности, от которой взялись было концептуально обособиться. А с другой — так ли уж и лишена? Это не вопрос для беглого разбора, да и утверждение Ю.Н. Захарука возникло неспроста.
В самом деле, природа ископаемой действительности и её фракций представлялась исследователю недвижной. Взять, для начала, сущностную форму. Так, археологические объекты — это не сами результаты былой культурной деятельности, а следы и останки результатов. Если речь идёт о природе крупных общностей материала, то, прежде всего, о внутреннем характере «мира следов и останков» (Захарук 1975а; 1975б; 1976; 1978; 1990):
|
характеристики феноменов |
«живая» культурная деятельность и её результаты |
«мёртвые» следы и останки результатов |
|
|
тип системы |
динамичная развивающаяся |
статичная завершённая |
|
|
источники развития |
внутренние |
внешние |
|
|
показатели компонентов |
наличие |
полное |
выборочное |
|
состояние |
целостное, подлинное |
фрагментарное, изменённое |
|
|
диагностичность |
полная |
частичная |
|
|
связи |
органичные |
агрегативные |
|
|
функции |
актуальны |
утрачены |
|
|
позиция времени |
наблюдаемая |
компрессивная |
|
В общем, в упомянутых до сих пор составляющих природы ископаемой действительности разлиты непричастность живому, прекращение, выход и — как очень зримые выражения — накопление, стяжение в единую колонку. С перечисленным согласуется и познавательная функция археологической культуры, направленная на прошлую действительность уже как на систему со всеми компонентами. Следы и останки теперь представляют и общество, и взаимодействие общества с природной средой.
Таким образом, самый интересный в нынешнем случае урок Ю.Н. Захарука — об ископаемой действительности, всеобщности археологических рукотворных объектов. Те, которые систематизированы, таксономически организованы, слагают археологическую культуру или универсум — глобальное полотно, из которого типо-комплексными средствами кроятся и сшиваются малые археологические культуры. Ископаемая действительность, как вмещающее целое, тоже, разумеется, глобальна, а также вместительна
МАИАСП № 13. 2021
по датировкам — настолько, насколько длительно человеческое (кроме постсредневекового), избирательно распространяясь на следы и останки самого рода людского и на следы и останки его контактов со средой; следовательно, познавательность объемлет феномены первой действительности отраслевой выборкой источников. Но эти же источники служат познанию самой ископаемой действительности. Похоже, что это не только об археологическом источниковедении, но и о познании ископаемого как оно есть, безотносительно познания исторической реальности. Действительно, накопительная компрессия запускается выпадением следов и остатков «из исторического процесса»; в условиях естественного залегания памятники фрагментируются, теряя в опознаваемости и характеризуемости как источники. Раскопки и лабораторные работы прекращают это разрушение, активируя новое и внося различные изменения. Это важные указатели на длительное формирование ископаемого. Но вторая действительность у Ю.Н. Захарука — уже готовая, залёжная, статичная, а системный коллапс первой предстаёт неким схлопыванием — то затяжным, то внезапным выпадением исторического в ископаемое. Между тем, вторая действительность должна была как-то и когда-то образовываться. И это, думается, происходило отчасти в ходе культурной деятельности и в условиях общественной практики, в их взаимодействии со средой: формирующая функция феноменов познаваема помимо их привычных системных функций. Формирует культура, формирует и среда. Затем каких-то, если не всех, социокультурных и природных факторов первой действительности уж нет и в помине, и в дело вступают аналогичные новые. Сказано, что системная деятельность первой действительности явлена следами и останками результатов деятельности; только вот формирование этой второй действительности — ввиду его собственной далёкой от завершения долготы, а также открытости того, что уже сложилось, всяческим воздействиям, включая научное вмешательство — наделяло и наделяет следы и останки тем, чем не могли их наделить ни сама деятельность, ни её прекращение. И «наделение» объекта/источника — это и собственно привнесение, но, разумеется, и прогрессирующая убыль, и непрерывный переход, и небывалые прежде агенты и соотношения.
Третья действительность? Или вторая, но — другая?
Поведенческая теория трансформаций
Место глобальной целостности у М.Б. Шиффера (Schiffer 1996: XVIII, 3, 6—8, 10) занимает археологическая запись, данность (record) , включающая
-
• артефакты,
-
• структуры и
-
• депозиты, но не
-
• экофакты, относимые к особым средовым записям в роли свидетельств (evidence) (Schiffer 1996: 7, 9, 199, 290—291). Дело здесь в различении культурных и средовых процессов образования, сказывающихся в системных (поведенческих) и археологических (депозиционных) контекстах (Schiffer 1996: XVII—XIX, 3—11). Процессы же образования действовали (и действуют!) в крупном региональном измерении, и отсюда уже вовсе недалеко до археосферы, функцией которой они, стало быть, и выступают. Убыль, видоизменение, перераспределение — вот формы, принимаемые свидетельством в образующейся записи. Бытование в поведенческих контекстах, а затем забвение, разрыв с культурой, ископаемость вносят в запись свидетельство о связях и отношениях вне былых намерений, норм и деяний. Антропо-, социо- и культуроцентризм теории преобразований специально фокусируются на искажениях манифестаций материальной культуры ввиду
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
интереса к былому обществу; геосферный характер записи в этих построениях как бы припрятан из-за присущего им подхода к разграничению/увязыванию сред и контекстов и, в частности, из-за концептуальной изоляции экофактов.
Археологические объекты и археологические памятники
У В.С. Бочкарёва (2014) археологический памятник — это ископаемое свидетельство человеческой деятельности, объективная данность, изучаемая и видоизменяемая в процессе изучения и тогда становящаяся источником. Определение памятника наследует и расширяет дефиницию археологического объекта — «обособленного объекта, подлежащего ведению археологии» (Клейн 1991: 350).
Но отчего же памятники, а не объекты? Объекту, осмысленному как артефакт или универсалия иного уровня, отведено место в образе былой культуры. Отныне это памятник (Бочкарёв 1975). Собственно же объект уместно определять — пользуясь переиначенной дефиницией памятника по В.С. Бочкарёву — как рукотворное, преобразованное культурой или сопричастное человеческой деятельности ископаемое явление. Почему же памятники, а не источники? Памятники были, есть и будут независимо от того, произойдёт ли их иное научное освоение, помимо включения в ряд универсалий. Памятники могут выступать археологическими, преисторическими и иными источниками.
Ещё одним ключевым свойством памятника, наряду с ископаемостью, является рукотворность. Данному критерию отвечают следующие разновидности памятников:
-
• артефакт,
-
• комплекс артефактов (в частности — замкнутый, вроде клада или погребения) и
-
• артефактная структура.
Артефакт и структура у В.С. Бочкарёва — памятники простые . В сложном памятнике или комплексе (это не обязательно «комплекс артефактов» из списка) множественные простые памятники включены в культурный слой (культурно-природное образование) в сопровождении экофактов (образцов природной среды).
В определении сложного памятника термин «комплекс» акцентирует его многокомпонентность. Он не равен комплексу артефактов как разновидности памятников. Если следовать дефиниции, предложенной В.С. Бочкарёвым, не все комплексы артефактов, достающиеся археологам в ископаемом состоянии, являются сложными памятниками. Взять, к примеру, погружённый в болото или спрятанный в дуплистом дереве глубоко в лесной чаще клад металлических изделий; в таких местах не окажется культурного слоя, а экофакты былого природного окружения отлагались там и без сокрытия клада. Кроме того, не всякое погребение является комплексом артефактов или, хотя бы, контекстом одного артефакта; таково, например, захоронение, где нет (и не было?) ничего, кроме останков человека. В то же время, многие погребения оказываются сложными памятниками — в них и артефакты, и структуры, и кости от мясных приношений, и перемешанное заполнение, и многое другое в тех или иных сочетаниях. Но в таких погребениях есть экофакты и преобразованный грунт, а потому они не являются только комплексами артефактов и, более того, в своей целостности оказываются шире двойственной (ископаемой рукотворной) сущности памятника.
Сложный памятник осмысляется через связь простого памятника с местонахождением , а множества простых и сложных памятников осмысляются ещё и через связи между собой. Это служит напоминанием о дефиниции у Л.С. Клейна (1978: 98), где памятник (местонахождение) — это «совокупность сооружений, отложений и вещей, оставленных людьми в одном месте и связанных в силу этого в одно целое ещё в жизни или уже при
МАИАСП № 13. 2021
отложении или после такового». Оценивая совместное отложение и общность постдепозиционных судеб памятников посредством некой пространственной локализации с определёнными условиями, нет необходимости ставить местонахождение в ряд с прочими разновидностями памятников. Ведь единичный артефакт in situ образует местонахождение ( a site , a findspot, der Fundort, die Fundstelle ). Этот же артефакт, исследуемый «в поле» и перемещаемый в лабораторию с информацией о контексте и доступных наблюдению условиях местонахождения, становится в процессе изучения археологическим, преисторическим или иным источником (Бочкарёв 2014: 47, 48). Таким образом, местонахождение (пункт, локус) — одно из свойств памятников, свойство пространственносоотносительное, описывающее их всеобщие и частные склонности бывать здесь, там и повсюду. О свойствах ещё будет сказано специально. В практике же учёта и охраны всякое местонахождение (пункт с памятником / памятниками) для краткости называется памятником.
Обсуждение надо бы завершить чем-то рациональным, но прежде есть уточнение касательно экофактов.
Итак, об экофактах
Теории трансформаций они сообщают о природных процессах, без которых ничто не обходится в археологическом формировании. Ладно бы и так, но экофакты нередко сообщают и о процессах культурных. В общем, теорию трансформаций занимает любое формирование записи, но экофакт — не запись; это из-за нерукотворной внекультурности, вторгающейся в то состояние культуры, какое застаёт. Можно ещё сказать, что получившийся депозит — это и вправду вклад, то и дело изымаемый целиком или частями в другой контекст, где его опять немедля обступают экофакты. Запись М.Б. Шиффера и памятники В.С. Бочкарёва объективированы этиологически: они рукотворны, а у В.С. Бочкарёва вдобавок ископаемы. Эпистемология М.Б. Шиффера — в свидетельстве, В.С. Бочкарёва — в источнике, и экофакт — натуральный спутник культурно-природной двойственности памятника.
На подступах же к искомой концепции натурогенный материал депозита — в любых формах — вполне представим как относящийся ко всеобщему археологическому, где природное тоже представляет археосферу, а на правах свидетельства/источника информирует о поведении общества, о средовом окружении общества (Hester, Grady 1982: 35—36) и — для полноты картины — о среде без общества.
Обсуждение сути и частностей сказанного с необходимостью продолжается как обсуждение классификационное.
Седименты и смещённые фракции поселений и вправду полны такого, что нельзя сходу отнести к чему-то поведенческому и археологическому (Schiffer 1996: 290—291, 394) без пытливой и разносторонне внимательной экспертизы (Lyman 1987; Антипина 2004). В закрытых же комплексах именуемое экофактами там и тут вписывается в отношения культуры. В целом, конвенциональный статус экофакта как записи/памятника и свидетельства/источника зависит и от логоса экспертизы, и от фокуса наблюдения. Так, находки растений и пробы сконцентрированных растительных остатков в могилах документируют вовлечённость в обряд (Гольева 1999: 188—192; Гольева и др. 2001; Шишлина, Пахомов 2001), тогда как на поселениях в той же местности такие материалы и ситуации вряд ли уцелеют. Похоже и с образцами фауны. Но те и другие, едва задетые культурным вмешательством, подпадают под широкое определение артефакта (Schiffer 1996:
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
3; Классификация 2013: 11, 100—101). Дело за малым — распознать приметы рукотворного и поведенческий контекст. А если ни то ни другое не распознаётся, не документируется обликом и веществом объекта, но устанавливается (достоверно допускается) по контекстуальным связям, по аналогии? Тогда — принимая известные ограничения археологического контекста — следует останки человека, а также иные причастные культурным деяниям натурогенные образцы без определимых примет рукотворности именовать натурфактами и, тем самым, обособить их от вклада среды, от экофактов. Формоследовые же видоизменения, причинённые артефактам, экофактам и натурфактам фауной, флорой, водой, горными породами и т. п. вносят в них дополнительное комплексное запечатление среды и/или культурных деяний. Наделять что-то приметами экофакта (пусть это что-то и без того является экофактом!) суть формирующая функция подобных видоизменений. Градация и субградация наверняка разделят натрое и далее многие выборки твёрдых тканей организмов и минеральные фракции из мест людского обитания (что-то, конечно, останется неопределённым). Так, останки человека в их анатомическом единстве нередко бывают обработаны (напр., трепанированы) и посему относимы к смешанным органотехнологическим объектам (Edgeworth et al. 2015: 44). Когда порезы и разломы от разделки соседствуют на костях с погрызами хищников и личиночными пустотами, тогда впору говорить об артефактах с приметами экофактов, причём последние сообщают нечто как о средовых процессах образования, так и о культурных (Панковский, Яниш 2018); совместность того и другого придаёт особую пикантность экспертизе и толкованию артефактов/экофактов и натурфактов/экофактов остеофагии (Рассадников 2017). Трасология стеблевых кремнезёмных проточин на резцах крупного рогатого скота (Панковский и др. 2015) учит(ся) отличать экофакты износа зубов от нарезных поделок. При этом, получая и созерцая столь важные для различительной экспертизы инталии зубного дефекта, она обнаруживает там реальные запечатления опознаваемых жёстких кормов.
Теперь желательно приостановиться, обобщить сказанное и подвести краткий рабочий итог.
Промежуточное сопоставление, или ускользающие компоненты
Итак, былой ввод натурогенных объектов в поведенческие контексты результируется в натурфактах и артефактах контекстов археологических. Разностадиальные процессы образования последовательно придают этому множеству характер культурно-природных объектов и, в определённый момент, культурно-природных депозитов; в частности, средовыми процессами вносятся экофактные приметы. Собственно же экофакты — это природные сущности археологического контекста, тем или иным образом приобщавшиеся к былым поведенческим контекстам.
Археологический памятник — рукотворный, преобразованный культурой или сопричастный человеческой деятельности ископаемый объект. Учитывая сказанное, целесообразно различать такие разновидности памятников:
-
• артефакт,
-
• натурфакт,
-
• экофакт,
-
• артефактная структура (сооружение — постройка, изъятие грунта и т.п.),
-
• комплекс (разной сложности, с артефактами или без них — клад, погребение и т.п.),
-
• культурно-природная структура (слой, грунтовое заполнение и т.п.),
-
• след и следовые комплексы,
МАИАСП № 13. 2021
-
• остатки (дискуссию о следах и остатках, а также новые постулаты см. (Гиря 2015; 2017; Pankowski 2019: 198).
Статус памятников двойственен. Это класс культурно-природных объектов (Бочкарёв 2014: 47, 48, 51), отделённых от природы ввиду рукотворности и обособленных в системе культуры в силу ископаемости и подверженности природным трансформациям. Убыль сопровождается депозиционным и постдепозиционным перераспределением, характеризуя трансформационную функцию археосферы, где системное поведенческое становится археологическим или, иначе, рукотворное становится ископаемым культурно-природным.
Былое теории трансформаций — культурное: запись создана и обусловлена намеренным и ненамеренным общественным поведением и культурным отложением. Среда относительно поведения, материальной культуры и записи — внешняя сила; двойственность записи отсюда не выводится, хотя препятствий этому нет. Культурно-природная двойственность памятников (Бочкарёв 2014) и преобразованной тверди (Edgeworth et al. 2015: 52) подразумевает, что норма, цель и контроль не касаются всякой рукотворности и всякого же поведения: взять, к примеру, микроизнос орудий. Повседневная и катастрофическая работа стихий природы и социума результируется в археосфере (Edgeworth et al. 2015: 53—54). Без природной среды упокоения археологическое невозможно. Артефакт вне поведенческого контекста предан забвению, удалён, скрыт. Это обратимо, но если он всецело отдан произволу природы, то культура не управляет этим натиском. Артефакт, возвращённый в поведенческий контекст, будет отчасти прежним и активным; артефакт длительного депонирования приобретает свойства, изначально ему не присущие и зачастую несовместимые с его назначением; его технологическая эпоха прошла. Памятник в упокоении, вне поведения — это не часть антропосферы или техносферы, но объект археосферы.
И Ю.Н. Захарук, и М.Б. Шиффер, и В.С. Бочкарёв по-разному указывают на относительное свойство археологического пребывать в настоящем, прибывая из былого; это факт настоящего и резервуар данных о былом. Познаваемость свидетельства предполагает познающего: быть записью, вещностью, но не объективироваться и не становиться свидетельством означает для некоторой части уже имеющейся и ныне возникающей археосферы быть помимо человека, общества и культуры. При этом у Ю.Н. Захарука собирание и сжатие ископаемой действительности прекратились давно; она — завершённость, годная как свидетельство. Пусть так; но всецелая изоляция второй действительности от нынешних культуры, общества и природы не подтверждается: такое, давнее ископаемое тоже наличествует, всё ещё открыто формирующим процессам, активно изымается в новые поведенческие контексты (sic! Захарук 1978: 52) и востребовано как свидетельство — о себе самом, о былом и, стало быть, о теперешнем. Историческое, по Ю.Н. Захаруку, существовало прежде, существует и в настоящем, ископаемое же — всецело в настоящем, а что не уцелело, то не существует, не наблюдается. Но эта вторая реальность — включая то, что не уцелело — существовала, когда (с)формировалась бок о бок и в разнообразных соприкосновениях с неким прежним историческим, системно принадлежа тому историческому.
Археосфера в геостратиграфическом понимании суть вмещающая среда для памятников, слагаемая фациями — отложениями и обширными структурами. В археологическом понимании всё перечисленное, а также следы и остатки — это памятники. Таким образом, археологическая концепция археосферы получает образ сущностной формы археосферы как всеобщего множества памятников, а также идею генезиса археосферы, которая рукотворна, окультурена и, при этом, заброшена, ископаема, однако во всяком состоянии причастна
МАИАСП № 13. 2021
Археосфера Земли (археологическая концепция археосферы)
веществам Земли. Межсферная позиция археосферы требует особого анализа и отдельного обсуждения. Памятники не классифицируются так, как вещества геосфер: они рукотворны, бывали и бывают в обороте технологий, в игре нормированного поведения, в сетях рутинного габитуса; выход объектов из среды культуры, упокоение и постдепозиционные превращения творились и творятся не так, как переход биогенного вещества в земную твердь (Lyman 1987; 2010; Behrensmeyer et al. 2000). Что же в археосфере такого, чего нет ни в одной земной системе? Каковы её компоненты? Памятники ли это как таковые и ничего более?
Связующие тезисы …
Разнообразие связей и отношений всеобщего «археологического материала» (Бочкарёв 2014: 51) не исчерпывается вышеизложенным. Памятники в полноте свойств составляют натуральный ряд археологии (универсалий), источники — ряд генерализованный аналитический (категорий), и ряды находятся в неразрывной познавательной и процедурной взаимосвязи (Бочкарёв 1975; 2014: 51). Л.С. Клейн (1991: 211—219) расширил и преобразовал эту модель, но здесь фигурирует именно первичный её образ, что совершенно достаточно в целях данного исследования:
|
Археологические |
Археологические |
|
универсалии |
категории |
|
КОМПЛЕКС |
КУЛЬТУРА |
|
контекстуальное |
↔ сочетание |
|
свойство |
типов |
|
↕ |
↕ |
|
АРТЕФАКТ |
ТИП |
|
сочетание |
↔ сочетание |
|
свойств |
признаков |
|
↕ |
↕ |
|
СВОЙСТВО |
|
|
специфическое |
↔ ПРИЗНАК |
|
свойство |
Система основных археологических понятий не работает напрямую с понятиями натурфакт, экофакт, культурно-природная структура, следы, остатки. Но при необходимости они могут быть встроены в неё (ср.: Клейн 1991: 211—219, 372—376; Бочкарёв 2014).
Ископаемый материальный объект принадлежит культуре в силу рукотворности, определяемой по приметам изготовления, преобразования. Трасологи отнесут к таковым следы обработки и использования. В.С. Бочкарёв полагает качества ископаемости и рукотворности важными, но не достаточными для обособления археологического объекта внутри универсально-категорийной модели; нужно, чтобы системная исследовательская стратегия опознала его как артефакт , т.е. обосновала представление о функциях объекта в культуре. Но вот что интересно: приметы отношения объекта к ископаемым и рукотворным допустимо и целесообразно изучать изолированно друг от друга и отдельно от самого объекта — как таковые и как образцы для идентификации других примет и объектов. Тогда
МАИАСП № 13. 2021
может статься, что ископаемый объект не обладает качеством рукотворности, что его целостная форма и видоизменения — натуральные. Не попадая в ряды и уровни модели (не артефакт же), он не перестаёт быть археологическим объектом (оставаясь ископаемым и связанным с археологическим контекстом), но должен получить аттестацию, например, экофакта. В целях данного экскурса важно, что модифицирующие следы любого происхождения выделяются здесь на уровне исследуемых свойств. Артефакт В.С. Бочкарёва — будь то отдельная черта портативного объекта, весь объект, недвижимое сооружение или организованное пространство — тоже обладает свойствами для изолированного изучения. К числу свойств, объяснимых в свете многообразия культурных функций артефакта, трасологи отнесут следы использования. Но только ли о свойствах речь? Коль скоро артефактами являются отдельные черты объектов (напр., декор), то таковыми вполне могли бы считаться, как минимум, фиксируемые следоведами устойчивые образы видоизменений на портативных объектах (процарапанный или оттиснутый узор, износ). Возможно ли было прежде вынесение образов видоизменений и следовых образов (не отдельных следов и не фактов их наличия!) из свойств и признаков на другой уровень (к артефактам и типам) в иерархии? Нет. Восприятие следов как микроскопических и, во всяком случае, весьма некрупных утилизационных образований на поверхностях изделий определяло статус следов как свойств, а позднее как признаков (Коробкова, Щелинский 1996: 21—23). Эти аналитически сепарируемые свойства и признаки на деле были неотделимы от своих носителей. Новая археологическая трасология мыслит свой объект не свойством, а сочетанием взаимосвязанных природных свойств и рукотворных признаков, археологическим объектом и памятником; это последовательное и подчас весьма непростое наложение следов различного происхождения на исходные (в т. ч. собственные) поверхности — изготовленные и натуральные. Всякое следообразование воспринимается как закономерное, специфичное, а искусственное — ещё и как типологически изменчивое. Для его более ясного понятийного и процедурного обособления уже выработана модель взаимосвязи формо- и следообразования (Гиря 2015; 2017; Pankowski 2019: 198), которую ещё предстоит модифицировать и адаптировать к артефактным структурам и сооружениям.
Список литературы Археосфера земли (археологическая концепция археосферы)
- Антипина Е.Е. 2004. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты. В: Антипина Е.Е., Черных Е.Н. (отв. ред.). Новейшие археозоологические исследования в России: к столетию со дня рождения В.И. Цалкина. Москва: Языки славянской культуры, 7—33.
- Бочкарёв В.С. 1975. К вопросу о системе основных археологических понятий. В: Массон В.М., Боряз В.Н. (отв. ред.). Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Материалы симпозиума методологического семинара ЛОИА АН СССР. Апрель 1975. Ленинград: Наука, 34—42.
- Бочкарёв В.С. 2014. О некоторых характерных чертах археологических памятников и археологических источников. В: Алёкшин В.А. (отв. ред.). Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти Вадима Михайловича Массона (03.05.1929-19.02.2010). Санкт-Петербург: ИИМК РАН; Арт-Экспресс, 47—52 (Труды ИИМК РАН XLИ).
- Гиря Е.Н. 2015. Следы как вид археологического источника (конспект неопубликованных лекций). В: Лозовская О.В., Лозовский В.М., Гиря Е.Ю. (отв. ред.). Следы в истории. К 75-летию Вячеслава Евгеньевича Щелинского. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 232—268.
- Гиря Е.Н. 2017. Доказательная интерпретация каменных индустрий: морфономия, морфология, контекст. В: Васильев С.А., Щелинский В.Е. (отв. ред.). Древний человек и камень: технология, форма, функция. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 34—45.
- Гольева А.А. 1999. Растительные подстилки эпохи бронзы Калмыкии. В: Шишлина Н.И. (отв. ред.). Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей. Москва: ГИМ, 185—203 (Труды ГИМ 109).
- Гольева А.А., Белинский А.Б., Калмыков А.А. 2001. Биоморфный анализ материалов из погребений катакомбной культуры (Ставропольский край). В: Белинский А.Б. (гл. ред.). Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа II. Москва: Памятники исторической мысли, 163—182.
- Захарук Ю.М. 1964. Проблеми археолопчно! культури. Археолог1я XVII, 12—42.
- Захарук Ю.Н. 1975а. К вопросу о предмете и процедуре археологического исследования. В: Массон В.М., Боряз В.Н. (отв. ред.). Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Материалы симпозиума методологического семинара ЛОИА АН СССР. Апрель 1975. Ленинград: Наука, 4—6.
- Захарук Ю.Н. 1975б. К вопросу о природе археологической культуры. В: Баран В.Д. (отв. ред.). Новейшие открытия советских археологов (тезисы докладов конференции). Ч. III. Киев: ИА АН УССР, 12—14.
- Захарук Ю.Н. 1976. Археологическая культура: категория онтологическая или гносеологическая? В: Кольцов Л.В., Зимина М.П., Гадзяцкая О.С. (отв. ред.). Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. Москва: Наука, 3—10.
- Захарук Ю.Н. 1978. Парадокс археологической культуры. В: Кропоткин В.В., Матюшин Г.Н., Петерс Б.Г. (ред.). Проблемы советской археологии. Москва: Наука, 49—54.
- Захарук Ю.Н. 1990. Спорное и бесспорное в изучении археологических культур. КСИА АН СССР 201, 3—9.
- Классификация 2013: Колпаков Е.М. (отв. ред.). 2013. Классификация в археологии. Санкт-Петербург: ИИМК РАН.
- Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Ленинград: Ленинградский университет.
- Клейн Л.С. 1991. Археологическая типология. Ленинград: АН СССР.
- Клейн Л.С. 2012. Археологическое исследование: Методика кабинетной работы археолога. Кн. 1. Донецк: ДНУ.
- Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е. 1996. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Ч. 1. Санкт-Петербург: ИИМК РАН (Археологические изыскания 36).
- Панковский В.Б., Гиря Е.Ю., Саблин М.В. 2015. Трасологические критерии отличия предметов первобытного искусства и остатков фауны с естественными видоизменениями. Stratum plus (1), 169—184.
- Панковский В.Б., Яниш Е.Ю. 2018. О происхождении отверстий и углублений на костях животных из Александропольского кургана. В: Полин С.В., Алексеев А.Ю. Скифский царский Александропольский курган IVв. до н.э. в Нижнем Поднепровье. Киев; Берлин: Видавець Олег Фшюк, 741—755 (Курганы Украины 6).
- Рассадников А.Ю. 2017. Остеофагия домашних копытных на поселениях бронзового века Южного Зауралья (по археозоологическим и этнозоологическим материалам). Вестник археологии, антропологии и этнографии 2 (37), 163—168.
- Шишлина Н.И., Пахомов М.М. 2001. Определение сезона погребений могильников Му-Шарет в Калмыкии (по результатам палинологического анализа). В: Цуцкин Е.В., Шишлина Н.И. (отв. ред.). Могильники Му-Шарет в Калмыкии: комплексное исследование. Москва; Элиста: Полтекс, 116—120.
- Behrensmeyer A.K., Kidwell S.M., Gastaldo R.A. 2000. Taphonomy and Paleobiology. Paleobiology 26 (4), 103—147.
- Braje T.J. 2015. Earth Systems, Human Agency, and the Anthropocene: Planet Earth in the Human Age. Journal of Archaeological Research 23, 369—396.
- Capelotti P.J. 2009. Surveying Fermi's Paradox, Mapping Dyson's Sphere: Approaches to Archaeological Field Research in Space. In: Darrin A.G., O'Leary B.L. (eds). Handbook of Space Engineering, Archaeology and Heritage. Boca Raton: Taylor and Francis; CRC Press, 855—867.
- Edgeworth M. 2017. Humanly modified ground. In: DellaSala D.A., Goldstein M.I. (eds). The Encyclopedia of the Anthropocene. Oxford: Elsevier, 157—161.
- Edgeworth et al. 2015: Edgeworth M., de Richter D.B., Waters C., Haff P., Neal C., Price S.J. 2015. Diachronous beginnings of the Anthropocene: The lower bounding surface of anthropogenic deposits. The Anthropocene Review 2 (1), 33—58.
- Hester J.J., Grady J. 1982. Introduction to Archaeology. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Lyman R.L. 1987. Zooarchaeology and Taphonomy: a General Consideration. Journal of Ethnobiology 7 (1), 93—117.
- Lyman R.L. 2010. What Taphonomy Is, What it Isn't, and Why Taphonomists Should Care about the Difference. Journal of Taphonomy 8 (1), 1—16.
- Oxilia et al. 2017: Oxilia G., Fiorillo F., Boschin F., Boaretto E., Apicella S.A., Matteucci Ch., Panetta D., Pistocchi R., Guerrini F., Margherita C., Andretta M., Sorrentino R., Boschian G., Arrighi S., Dori I., Mancuso G., Crezzini J., Riga A., Serrangeli M.C., Vazzana A., Salvadori P.A., Vandini M., Tozzi C., Moroni A., Feeney R.N.M., Willman J.C., Moggi-Cecchi J., Benazzi S. 2017. The dawn of dentistry in the late upper Paleolithic: An early case of pathological intervention at Riparo Fredian. American Journal of Physical Anthropology 163 (3), 1—16.
- Pankowski V. 2019. The Late Tripolye and the Funnel Beaker Industries of Bone and Antler from Volhynia to Galicia: The UPTE Contribution. In: Diachenko A., Rybicka M., Krol D., Sirbu Gh. (eds). Between the East and the West: Dynamics of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th — beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study). Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 197—216.
- Rczkowski W. 2012. Metody w archeologii. In: Tabaczynski S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.). Przesziosc spoieczna. Proba konceptualizacji. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 367—408.
- Schiffer M.B. 1996. Formation Processes of the Archaeological Record. Salt Lake City: University of Utah Press.