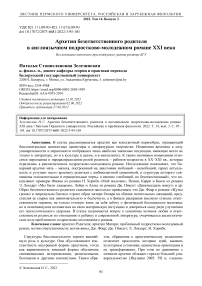Архетип безответственного родителя в англоязычном подростково-молодежном романе XXI века
Автор: Зелезинская Наталья Станиславовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается архетип как константный первообраз, отражающий бессознательные ценностные ориентиры в литературном творчестве. Изменения архетипа в силу универсальности и первичности отображают лишь наиболее значимые тенденции, имеющие место не только в литературе, но и в культуре в целом, и в менталитете. К таким значимым изменениям относятся переоценка и перераспределение ролей родитель - ребенок-подросток в ХХ-ХХI вв., которые отразились в реалистическом подростково-молодежном романе. Исследование показывает, что бинарный архетип мать - мачеха, построенный на дихотомии любящий - нелюбящий, теряет актуальность и уступает место архетипу родителя с амбивалентной семантикой, в структуре которого совмещены положительные и отрицательные черты, а именно «любящий, но безотвественный», что показывают примеры Фионы из романа Н. Хорнби «Мой мальчик», Пенни, Керри и Бесси из романа Э. Локхарт «Мы были лжецами», Лейси и Алекс из романа Дж. Пиколт «Девятнадцать минут» и др. Образ безответственного родителя становится настолько привычным, что Дж. Фоер в романе «Жутко громко и запредельно близко» строит образ матери Оскара на обмане читательских ожиданий, представляя ее сперва как невнимательную и беспечную, а в финале раскрывая высокую степень ответственности героини, не только готовую взять на себя заботу о физической безопасности мальчика, но и осмелившуюся положиться на свою материнскую интуицию и довериться сыну ради улучшения его психологического здоровья. В статье поднимается вопрос о семантике мотивов любви и ответственности родителя по отношению к ребенку в современной литературе, очерчивается аксиологическое поле проблемного подростково-молодежного романа.
Архетип родителя, архетип матери, проблемный подростково-молодежный роман, мотив ответственности, мотив вины, дж. фоер, дж. пиколт, э. локхарт, н. хорнби
Короткий адрес: https://sciup.org/147238646
IDR: 147238646 | УДК: 821.111.09-93+821.111(73).09-93 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-95-105
Текст научной статьи Архетип безответственного родителя в англоязычном подростково-молодежном романе XXI века
тельно, меньше реагирует на внешние влияния (вопрос потенциальной возможности изменения архетипа был положительно решен Е. М. Меле-тинским) [Мелетинский 1994]. Если семантика, структура и прагматика мотива подвержены воздействию контекстов, то в отношении архетипа данные контексты лишь актуализируют те или иные его имманентные признаки, что позволяет нам заметить лишь наиболее крупные тенденции, характерные не только для литературного творчества, но и для менталитета общества на определенном этапе существования.
Ряд определений не принимает во внимание отличие архетипа от мотива, например, понимание архетипа как «основной ситуации, характера или образа, который постоянно появляется в жизни и, следовательно, в литературе» [цит. по: Колчева 2015: 258]. Поэтому за рабочее мы будем принимать разграничивающее эти понятия определение А. С. Афанасьевой, где архетип ‒ «константный первичный образ, обладающий ценностно-смысловым ядром и характерный для всех литературных произведений, в каждом из которых, однако, он проявляется в собственном смысловом спектре» [Афанасьева 2017: 45]. Данное определение принимает во внимание ведущие признаки архетипа: всеобщность, универсальность, репродуцирующий характер [Марков 1990: 133‒134], а также имманентную каждому архетипу ценностную ориентацию. В своей универсальности архетип сближается с символом (см. [Топоров 1995]), в понятийной абстрактности ‒ с концептом [Большакова 2010]. Хотелось бы подчеркнуть и необходимость соотнесения архетипа с оригинальным психоаналитическим дискурсом (принадлежность его сфере бессознательного, аффективность и т. д. [Хендерсон 2007: 149–164; Козлов 1996: 194‒195]). Что касается такой черты архетипа, как бинарность, вряд ли стоит рассматривать ее как уникальный признак архетипа [Колчева 2015: 259], поскольку и мотивы, и концепты, и мифологемы ‒ все понятия, генетически соотносимые с платоновскими идеями, бинарны, и речь может идти лишь о бина-ризме как структуралистской концепции, оказавшейся настолько близкой нашему менталитету, что она перешагнула ограничения структуралистского метода и свободно вошла в другие методологии и теории, наиболее широко выразившись в философии бинарной множественности мира. То же касается и амбивалентности, принципа, применяемого сегодня во всех сферах человеческого знания и диалектически вытекающего из бинарности по мере развития социума и культуры.
К. Г. Юнг, Э. Нойман, В. Броум, Дж. Хиллман исследовали архетипы Матери, Героя, Шута,
Творца и другие как универсалии человеческих представлений, которые передаются в обществе из поколения в поколение и определяют отношение коллектива к наиболее значимым категориям жизни. Первый из них присутствует в сознании человека с самого рождения. С точки зрения аналитической психологии ребенок – это творение родителей. Младенец смотрит на мать, видит свое «я» отраженным в ее радостном взгляде и чувствует свою самоценность. Чуть позже происходит идеализация, которая начинается с узнавания ребенком своего значимого взрослого. Ребенок нуждается в идеализированном образе ма-тери/отца, который соответствовал бы эталону, заложенному в генетической памяти. Позитивные образы отца и матери во внутреннем мире ребенка – основа психики и залог здоровья. По мере взросления через значимых взрослых происходит усвоение ребенком ценностных ориентаций, культурных и национальных традиций. Образ родителя(-ей) во многом определяет дальнейшие взаимоотношения с людьми, социальную адаптацию, психическую стабильность, телесное здоровье, сексуальное поведение. В нем заложен как личный пример матери и отца, так и архетип, воспринятый от предшествующих поколений.
Родительские архетипы включают позитивный и негативный аспекты. Среди позитивных черт архетипа Родитель психологи называют альтруизм, заботливость, сострадательность, щедрость, жертвенность, благородство, желание помогать и оберегать. При разделении архетипа родителя и рассмотрении по отдельности архетипа Отца и Матери, этими чертами наделяется архетип Матери. Негативные, или теневые, черты архетипа Матери реализуются в архетипах Ведьмы и Мачехи. Бинарность архетипа Матери отмечается уже в работах К. Юнга [Юнг 1991: 124; 1996] и детализируется его последователями: «Мать ужасная и карающая, с другой стороны – любящая и возрождающая. Архетипические символы, связанные со “злой матерью”, чаще всего выражены через такие символы, как смерть, угнетение, засуха, голод и жажда» [Иванова 2017: 132].
И положительные, и отрицательные образы матери реализованы в огромном количестве художественных произведений, а детская и подростково-молодежная литературы невозможны без них (при отсутствии персонажей-родителей или их заместителей необходимо вести речь о значимом отсутствии, например, о мотиве сиротства, поскольку двоемирие есть отличительная черта жанра). Как ребенок бессознательно сопоставляет характер и поведение своей матери с архетипом, так и читатель считывает образы родителей на фоне представления об архетипе и собственного опыта ‒ читательского и личного
(психологического ‒ в силу междисциплинарности архетипа). В английской литературе забота, любовь и ответственность могут воплощаться и в образе отца, как в романе про Полианну, которую отец вырастил в любви и позитивном понимании мира.
На протяжении веков в мифах, сказках и эпосе противоположностью архетипа Матери выступал архетип Мачехи, который строится на основании изменения полярности характеристик «любящая», «заботливая», «благородная», «справедливая», «ответственная» (за жизнь и здоровье ребенка, например, Мать не может послать дочку в лес, к ведьме, за подснежниками; поведение мамы Красной Шапочки недаром вызывает вопросы ‒ оно парадоксально беспечно и не соответствует заявленному архетипу). В авторских литературных произведениях широко распространен прием агглютинации: расщепления родителя на две ипостаси либо переход из одной категории в другую (тетя-«мачеха» Полианны, педантичная хмурая особа с суровым лицом и строгим взглядом Мисс Полли, под впечатлением от любви и доброты девочки берет на себя роль мамы) [Porter 2010].
Однако в современном проблемном подростково-молодежном романе – жанре, демонстрирующем с конца ХХ в. небывалый рост популяр-ности1, бурное развитие, углубление содержания, разнообразие поэтики, ‒ развиваются и другие (ранее не популярные) варианты архетипов. Именно подростково-молодежный роман, по нашему убеждению, два первых десятилетия XXI в. наиболее быстро и остро реагировал на изменение и обновление контекстов. Он пишется о молодых взрослых, для молодых взрослых и зачастую самими молодыми взрослыми, которые являются слоем населения, подверженным наибольшей адаптативности к условиям жизни и наибольшим изменениям сознания. Современная культура, в том числе молодежная, открыта, неоднородна и амбивалентна, что проявляется актуализацией нетипичных свойств архетипических моделей.
Наблюдается этот процесс после Второй мировой войны, когда значимость и самостоятельность подростков и молодых взрослых как социальной группы беспрецедентно увеличилась по экономическим причинам, появилось противопоставление взрослые – подростки, затем в результате возникновения контркультур 1960-х и войны во Вьетнаме – в культурном и политическом полях. В конце ХХ в. в литературе распространяется отрицательный тип родителя: «Образ матери или отца часто опровергают традиционные представления о родителях, которые должны воспитывать ребенка с рождения, заботиться о его материальном и духовном благополучии. По наблюдению Дж. Р. Таунсенд, одной из самых приметных характеристик детских романов последних десятилетий является наличие родителей, которые быстро “катятся по наклонной”, становясь основной проблемой в жизни подростка-протагониста» (данное наблюдение сделано в 1996 г. – Н. З.) [Пятроўская 2020: 332]. В основе конфликта таких романов лежит традиционный архетип Мачехи, построенный на «нелюбви» (реальной или выдуманной, сознаваемой или неосознанной обоими участниками), как и в романах, где из-за конфликта с родителями по наклонной катятся сами подростки («Изгои» С. Хилтон (The Outsiders, 1967), «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера (The Catcher in the Rye, 1951). Архетип Мачехи характерен для первого этапа развития подросткового романа, которому свойственно острое противопоставление мира подростков и мира взрослых. Встречается он и сейчас: в поттериане Дж. Роулинг (тетя Петунья и дядя Вернон), романе «Дочь таксиста» Дж. Далинг (The Taxi Driver’s Daughter, 2003) (отец Кэрис, родители Джорджа), в серии «Воронята» М. Стивотер (The Raven Boys, 2012) (отец Адама) ‒ но гораздо реже.
Последующие изменения семантики и даже структуры рассматриваемого архетипа связаны с переосознанием и перераспределением традиционных ролей в отношениях родителя и ребенка и между социальными группами взрослых и подростков. Информационное поле формируют не значимые взрослые, а социальные сети, блоги и каналы, принадлежащие подросткам или молодым взрослым. Пример успешных молодых (и даже юных) блогеров без образования, быстрое освоение новых технологий подростками, техническая «отсталость» взрослых, критичность к «чужому» теоретическому знанию нивелируют значимость образования в глазах подростка, а следом и другие традиционные «взрослые» ценности. При этом происходит параллельный процесс инфантилизации взрослых [Cain 2020; Сабельникова, Хмелева 2016] и децентрации культурных установок.
С другой стороны, в XXI в. в подростковомолодежном романе происходят внутрижанро-вые процессы: в проблемном романе на первом плане оказывается глобальная социальная проблема (самоубийство, теракт, неизлечимая болезнь, детское донорство, насилие в семье и т. п.), внутри которой подросток пытается сохранять и проживать свою жизнь. Изменяется тип конфликта, а конфликт между взрослым и ребенком уходит на второй план.
Кроме того, героем проблемного подросткового романа сегодня являются не изгои и бунта- ри, а обычные подростки, неидеальные по определению. Читатель отождествляет с героем себя, своего одноклассника или соседскую девочку, поэтому и идеализированные героини (так называемые Мэри Сью) столь же непопулярны, как и бунтарь Холден Колфилд. Неидеальные подростки живут с неидеальными родителями, но не с неисправимыми негодниками и эпическими тиранами (исключением, конечно, является проблемный роман с ведущим мотивом насилия). В свете теории архетипов нетрудно предположить, что в таком романе будут показаны и положительные, и отрицательные черты родителей, что отражает наше понимание реальности в ее многозначности и диалогичности, актуализируя бинарность архетипа Матери, который всегда включает в себя «ведьму, дьявольскую мать, прекрасную пожилую мудрую женщину и богиню, воплощающую плодородие» [Франц 2010: 48].
Интерпретируя проблемный подростковомолодежный роман в терминах аналитической психологии, можно утверждать, что в произведениях, где отсутствует злодей / отрицательный персонаж / антагонист, т. е. Тень не репрезентирована отдельным героем, имеет место раздвоение архетипического персонажа (обычно родителя), так что одна его часть является Тенью другой части. Одним из первых такой архетип воспроизводит Н. Хорнби в романе «Мой мальчик» ( About a Boy , 1998). Фиона представлена как умная самостоятельная женщина, любящая и любимая мама, которая заботится о сыне и старается привить ему хороший вкус и передовые взгляды (такой она себя видит). Тень же Фионы представляет собой женщину, не способную позаботиться в первую очередь о себе. После развода она предпринимает бесконечные неудачные попытки завести стабильные отношения с мужчиной, постоянно нервничает по поводу материального обеспечения семьи, так как зарабатывает мало, оттого еще и не получает удовлетворения от своей профессиональной деятельности, не может сохранить ровное отношение к бывшему мужу и его партнерше, а высказывает об обоих скептические суждения при сыне, чем дискредитирует отца в глазах последнего и дестабилизирует психику ребенка. Фиона не оценивает поступки других людей адекватно (это видно из косвенного обвинения Уилла в сексуальном интересе к Маркусу, отрицания социальной дезадаптации Маркуса и т. п.).
Таким образом, с теневой стороны, Фиона не успешна, не счастлива, не любима, поэтому ее обуревают чувства неполноценности, одиночества, сомнения, безысходности и отчаяния, одним словом, мать Маркуса не справляется с жизнью как она есть. По отношению к Маркусу, т. е.
непосредственно в ипостаси родителя, светлая сторона Фионы проявляется в любви, а темная – в игнорировании буллинга, неспособности слушать и слышать при одновременной нарочитой заботе не по возрасту сына: провожает в школу, целует на прощание, корректирует музыкальные пристрастия, т. е. отказывает сыну во взрослении, самости, отделении от родителя, что становится триггером буллинга в школе. «Смешная у него мама. Сторонница диалога. Всегда заставляет его выкладывать все как есть и обсуждать с ней. Тем не менее он был уверен: заведи он разговор о чем-нибудь серьезном – неизбежно начались бы проблемы, особенно теперь, когда она все время плакала без причины. Но в данный момент он просто не представлял, как этого избежать. Он ведь всего лишь ребенок, а она – его мама, и если ему плохо, то именно она должна исправить ситуацию – все проще простого» [Hornby 1998: 40]2. Пример Фионы показывает, как важно уметь найти опору родительству в ядре собственной сущности, в самоидентичности, трансцендентной добру и злу.
Как предсказывают психоаналитики в случаях, когда человек игнорирует свои проблемы, т. е. свою Тень, происходит кризис и эти проблемы проявляются резко, бурно, в изощренном и усложненном виде. Фиона напивается таблеток и оставляет Маркусу письмо, где утверждает, что быть матерью ей для жизни и счастья недостаточно [ibid.: 64]. Все ее слабости и изъяны были слабостями и изъянами, а сам образ Фионы – вариантом архетипа любящей Матери, но это заявление, которое Маркус находит подле лежащей без сознания матери, не задумавшейся даже над тем, что ребенок найдет ее бездыханное тело в луже рвоты, однозначно не позволяет и дальше рассматривать Фиону в рамках архетипа Матери. Однако если в паре мать ‒ мачеха различие строится на дихотомии любовь – нелюбовь, то в данном примере мы наблюдаем оппозицию ответственная ‒ безответственная. Этот образ любящей, но неспособной позаботиться о ребенке матери кочует из одного подросткового романа в другой, причем и отец (если он есть) изображен под стать матери человеком, не осознающим своей ответственности перед ребенком, что позволяет нам объединить эти две фигуры в архетипе Родителя.
Пример тщательно разработанного в проблемном подростково-молодежном романе образа безответственного родителя представлен в романе Э. Локхарт «Мы были лжецами» (We Were Liars, 2014) (стал Выбором читателей «Гудридз» в номинации «Лучшее художественное произведения “young adult”» и вошел в десятку лучших “young adult” романов в рейтинге Американской библиотечной ассоциации) в 2015 г. [Lockhart 2014]. «Лжецы» ‒ это четверка друзей (Кейденс, Гэт, Джонни, Миррен), трое из которых являются внуками богача Синклера и проводят каждое лето на его острове с младшими братьями и сестрами и своими матерями – дочерьми старого Синклера. Проделки и вранье сопровождают их свободное беззаботное времяпрепровождение. Кейденс, первая внучка, – наследница не только материальных благ, но и самих идей богатства, таланта, красоты, ума. «Добро пожаловать в чудесную семью Синклеров. Здесь нет уголовников. Нет наркоманов. Нет неудачников. Все Синклеры – спортивные, высокие и красивые. Мы – старинное богатое семейство демократов. Наши улыбки – широкие, подбородки – квадратные, а подачи в теннисе – агрессивные» [ibid.]3. Правда, трещины на кубке американской мечты читатель замечает если не на первой, то на второй странице: «В том июне лета номер пятнадцать отец объявил, что уходит, и через два дня покинул нас. Он сказал маме, что он – не Синклер и не в силах больше притворяться. А также улыбаться, лгать и быть частью этой прекрасной семьи, живущей в прекрасных домах» [ibid.].
Как видно, под «ложью» подразумеваются не только проказы детишек, но и способ сосуществования членов этой семьи и формат их общения с миром. Определение из названия романа можно отнести и к трем матерям, трем сестрам, чьи образы внешне соответствуют архетипу принцессы, а на поверку оказываются тремя макбетовскими ведьмами. Они постоянно спорят, ябедничают, чернят друг друга в глазах отца – все в расчете на наследство, которое будет дано им за «любовь». Этот нездоровый обмен любви на материальные блага апеллирует к «Королю Лиру» с той разницей, что «король» Синклер уже прочитал шекспировскую пьесу. Да и Корделии в их компании нет. Э. Локхарт представляет вариант всем известного сюжета с точки зрения юного поколения, которое вынуждено выбирать, подчиниться ли играм деда или взбунтоваться и потерять синклеровские привилегии.
Кейденс – красавица и умница, как мама, но девочка все яснее понимает, что больше не хочет быть похожей на нее, тетю Бесс и тетю Керри. Мама учит дочь оставаться «нормальной» всегда и любой ценой, держать лицо и вести себя достойно. В попытке воплотить в себе и своих детях надежду и опору семьи Синклеров женщины теряют мужей и нагружают детей непосильным бременем идеальности и перфекционизма:
«В этот момент я почувствовала такую боль, будто папа достал пистолет и выстрелил мне в грудь. Я стояла на газоне и упала как подкошенная. ˂…>
– Быстро приди в себя! – прикрикнула мама. – Сейчас же. Веди себя нормально, как положено. Ты справишься! Прекрати устраивать сцены, – твердила она мне. – Сделай глубокий вдох и сядь.
Я сделала, как было указано.
Она – все, что у меня оставалось» [ibid.].
Маски «любви» и «нормальности» не проходят испытание ни одним искушением: ненависть деда к индийскому происхождению Эда, партнера Керри, презрение к скромной семье Гэта, бабушкина покупка безделушек из слоновой кости, – но снять ее окончательно не так-то просто. Читатель наблюдает за потерей невинности, за тем, как дети, выросшие на книгах, фильмах, словах о прерогативе интеллекта, благородстве, искренности, постепенно обнаруживают, что поступками взрослых движут другие мотивы. Взросление в романе показано как восприятие и усвоение взрослой циничной картины мира:
«Гэт (единственный из четверки, кто не только не принадлежал к Синклерам, но и был обладателем индийского происхождения и темной кожи. – Н. З .) ткнул палкой в угли.
– Я просто к тому, что это важная тема. Не у всех есть собственные острова. Некоторые люди здесь работают. Другие трудятся на заводах. Есть и безработные. А кто-то голодает.
– Замолчи, надоело! – воскликнула Миррен.
– Заткнись наконец! – сказал Джонни.
– Здесь, на Бичвуде, мы смотрим на человечество сквозь розовые очки, – проговорил Гэт. – Но не думаю, что вы это осознаете.
– Заткнись, – вставила я. – Тогда я дам тебе еще шоколадку.
И Гат замолчал. С перекошенным лицом» [ibid.].
Когда с Кейденс происходит трагический случай (она приходит в себя с ужасными головными болями и амнезией, ей сообщают, что это – результат удара головой о камни при прыжке в море), жизнь меняется, меняются синтаксис повествования, эмотивные смыслы, модальность, характеры героев... Золотая четверка исчезает из жизни девочки: во время лечения и тошнотворных приступов мигрени Гэт не звонит, Джонни и Миррен не отвечают на имейлы, Кейденс больна, одинока и зависима от обезболивающих. Следующим летом папа забирает девочку в путешествие по Европе, а дедушка перестраивает дом на острове. Кейденс возвращается туда спустя два года в надежде вспомнить события того лета, отодвигающегося все дальше в прошлое, и, конечно, увидеть друзей. Почти сразу ей удается восстановить ряд предшествующих несчастному случаю событий: ссоры сестер, заговоры, манипулирование, власть, ложь, притворство, а над всем – фигура любящего дедушки. «Каждый ве- чер тетушки напивались и становились все агрессивнее. Они кричали друг на друга. Шатались по лужайке. Дедушка только и делал, что распалял вражду между ними. Мы наблюдали, как они ссорятся из-за бабушкиных вещей и картин, висящих в Клермонте, – но больше всего из-за дома и денег. Дедушка упивался своей властью, и мама хотела, чтобы я стал бороться за наследство. Ведь я был старшим внуком. Она давила и давила на меня… даже не знаю. Чтобы я стал любимым наследником. Чтобы я говорил гадости о тебе, так как ты – первая внучка. Чтобы стал воплощением образованного белого наследника, будущего демократии, ну и подобный бред. Она утратила дедушкину благосклонность и хотела, чтобы ее вернул я, дабы не потерять свою долю» [ibid.].
Потом Кейденс вспоминает пожар хозяйского дома на острове и то, что пожар устроили они, лжецы, когда сестры с дедом разругались и на время разъехались, а лжецы решили взять все в свои руки и уничтожить оплот лицемерия, очистить семью от скверны власти и раздора. Новые воспоминания приходят урывками, чередуясь с днями, наполненными болью и наркотиками, когда девушке кажется, будто великан разрубает ее голову топором (иногда ей снилось, что человек, рубящий топором, ‒ это дедушка). Мама всегда рядом, осознает свою вину перед дочерью и пытается загладить ее, но это не вся правда: мать охраняет Кейденс от вины, поскольку именно девочка по глупости сожгла своих друзей и ее амнезия – защитная реакция психики против разрушительного чувства ответственности. Таким образом, вопрос вины решается амбивалентно, распространяясь на всех членов семьи, на общество, не осуждающее привилегии, а обволакивающее остров флером тайны благодаря богатству владельцев. Кроме того, семантическая неопределенность согласуется с современным суждением, что «с возникающими у женщин проблемами души нельзя разобраться, вписав их, женщин, в некую приемлемую для бессознательной культуры форму; нельзя их втиснуть и в интеллектуальные представления тех, кто претендует на звание единственных наделенных сознанием существ» [Эстес 2008]. Данное значение, несомненно, входит в семантику архетипа Женщины, который пересекается с архетипами Матери и Родителя в отображающих их художественных образах. Но в отличие от открытой семантики мотива вины, проблема ответственности решается однозначно: быть матерью значит не только говорить «я тебя люблю», не только печься о материальном благе, но и сохранить душу ребенка, не отравив ее своими фобиями, амбициями, предубеждениями и ложью.
В романе Э. Локхарт архетип безответственного взрослого выражен очень ярко и причинноследственная связь между безответственным отношением взрослых к подростковой психике и последовавшей катастрофой абсолютно очевидна. Однако в современной подростково-молодежной литературе семантика мотивов вины и ответственности обыгрывается и более тонко. Авторы стремятся показать, что совершенно обычные родители, любящие и заботливые, тоже могут демонстрировать недостаток ответственности по разным причинам: инфантилизм, смутное осознание своей роли родителя, сосредоточенность на своей личности, своих проблемах, банальный недостаток времени.
Стресс и спешка, связанные с профессиональными успехами, с похвальным умением все успевать, с ангажированностью личности социумом, с деньгами, стали неотъемлемой частью жизни больших городов. Но люди и в XXI в. не научились растягивать время: посвящая себя работе, мы неизменно отнимаем себя у близких. На это нетривиальным способом указывает Джоди Пиколт в подростково-молодежном романе «Девятнадцать минут» ( Nineteen Minutes , 2007).
Лейси – прекрасная женщина. Это готовы подтвердить десятки рожениц, которым акушерка помогла профессионализмом, вниманием, заботой. Автор с большой симпатией описывает работу акушерки: «Доктора выстраивают стены между собой и пациентами, а медсестры их ломают» [Picoult 2007]4. Ее муж Льюис ‒ специалист по экономике счастья, автор книг о том, как сделать себя счастливым. У них есть семья, двое детей, дом, известность в определенных кругах, только времени катастрофически не хватает: «Сейчас, когда Льюис задерживался в офисе, работая над очередной статьей, а Лейси так уставала, что могла уснуть, стоя в лифте больницы, она пыталась убедить себя, что они просто переживают тяжелый период и однажды к ним придут и удовлетворение, и радость, и духовное единение, и все остальные параметры, которые Льюис вводит в свои компьютерные программы. В конце концов, у нее есть муж, который ее любит, два здоровых мальчика и успешная карьера. Разве получить то, чего хочешь, не значит быть счастливой?» [ibid.].
Предоставленный занятыми родителями сам себе, подросток Питер подвергается в школе буллингу и молчит, а потом не выдерживает, берет пистолет и устраивает в школе теракт. Оставляя сейчас в стороне личность Питера и отношения его с социумом, задумаемся о судьбе его матери, жизнь которой только что была наполнена тысячами эмоций и дел и вдруг потеряла всякий смысл. Лейси не доводила своего сына до унижений перед богатым дедом, не учила лгать и лицемерить, и сама была совершенно «нормальной», но вопрос вины родителей в трагедии, случившейся с ребенком-подростком, поставлен Дж. Пиколт так же, как и Э. Локхарт. «Разве можно каждую неделю менять сыну постельное белье, готовить ему завтрак, возить к стоматологу и совсем его не знать? Она думала, что Питер отвечал на вопросы односложно только из-за своего возраста, что любая мать подумала бы так же. Лейси теребила свои воспоминания в поисках какого-то знака, разговора, который она неправильно поняла, чего-то, что она не заметила, но вспоминались только тысячи обычных моментов» [ibid.]. Амбивалентность семантики мотива вины, неотступно следующего за мотивом преступления, соотнесена и с образом Питера, но идея ответственности общества в преступлении давно не нова и широко экслуатировалась уже в классической литературе, например, у Ч. Диккенса, а потом была обыграна в постмодернистском ключе П. Акройдом, М. Эмисом и др. Рассуждения же о том, что есть материнство, что оно синонимично понятию «ответственность», а не заправленной постели, заставляют читателя пересмотреть свои критерии нормальности, соотнести себя и окружающих с Лейси, понять, что любая мать может оказаться на ее месте. «В каком-то смысле эта женщина тоже стала жертвой действий своего сына» [ibid.]. Амбивалентность и универсальность усилены дупликацией: обе главные героини романа, Лейси и Алекс, такие разные по характеру и судьбе, абсолютно идентичны с точки зрения архетипа Родителя.
История Алекс, судьи по делу о теракте в школе, и ее дочери-подростка Джози развивается параллельно истории Лейси и Питера. Алекс любит свою дочь и гордится ею, но у судьи слишком мало времени: «Алекс положила на одну чашу весов свое пятиминутное опоздание, на другую – еще один минус в своем виртуальном резюме хорошей матери» [ibid., перевод наш. – Н. З .]. И к моменту оглашения приговора мы можем лишь повторить: «Не судите да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено» [Мф. 7: 1-2]. Ни Лейси, ни Алекс «не походили на человека, создавшего чудовище» [ibid.], но они оказываются по разные стороны баррикад – не потому, что Алекс лучше Лейси или Джози лучше Питера, а просто потому что трагедия в школе случилась чуть раньше, чем Джози приняла окончательное решение выпить таблетки, спрятанные под раковиной. История Алекс – это предупреждение о том, что детям нужно время. История Лейси ‒ это трагедия упущенного времени.
Таким образом, раздвоение архетипа Матери на любящую, заботливую, но безответственную, инфантильную или занятую, демонстрируют Фиона, осуществившая попытку суицида, Лейси, чей сын из винтовки расстрелял одноклассников, и Пенни, чья дочь устраивает пожар, в котором гибнут подростки. Эти романы говорят нам о том, что поведение родителей, не осознающих свою ответственность за судьбу ребенка, пускающих на самотек его нравственное и психическое развитие, уповающих на воспитание школы и социума, занимающихся своей жизнью и своими проблемами, потенциально фатально. Ребенок не ждет от родителей безграничной свободы, а любовь – не только нежность и ласка, но и ответственность.
Архетип безответственного Родителя в современном подростково-молодежном романе стал настолько привычен, что воспринимается читателем как данность и факт существования таких мам не ставится под сомнение. Так, мы видим, что 11-летний Оскар из романа Джонатана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» ( Extremely Loud and Incredibly Close , 2013), мальчик с аутизмом, с психологической травмой после смерти отца, предоставлен самому себе на протяжении всех описываемых событий.
Оскар потерял отца в теракте, отца любящего и внимательного, проводившего с ним много времени, читавшего перед сном, обсуждавшего волнующие сына вопросы. Отцу в повествовании посвящены длинные абзацы, полноценные истории, рефлексия и эмоции, тогда как о матери упоминается мимоходом. После его смерти в жизненном пространстве мальчика появилась пустота, которая «запредельно громко» вопиет о себе. Мать не в состоянии ее заполнить ‒ Оскар даже мысли такой не допускает. Мальчик находит ключ в вещах отца и отправляется искать дверь, которую этот ключ отопрет. Поиски символичны, результата от них читатель не ждет (сюжет проблемного подростково-молодежного романа в XXI в. все менее важен), но эмоционально вживается в ситуацию Оскара и болеет за него.
Его отношения с мамой нестабильны. С одной стороны, присутствуют когнитивный диссонанс: сомнение, обида, непонимание. С самого начала мальчик нелестно отзывается о нового бойфренде мамы. «Ты мне не папа и никогда им не будешь» [Foer 2005: 14]5 ‒ Оскар чувствует и проговаривает всё то, что свойственно мальчикам, у которых появляется отчим, его вопросы одновременно наивны и нарочито грубы. Оскар не столько не любит Рона, сколько возмущен изменой матери памяти отца, его гневные филиппики напоминают гамлетовский монолог о женском непостоянстве: «Мне хотелось сказать, что ей еще рано играть в скрэбл. Или смотреться в зеркало. Или включать музыку громче, чем очень тихо. Это нечестно по отношению к папе и нечестно по отношению ко мне» [Foer 2005: 31]. Диссонансные отношения обостряются занятостью мамы на работе, и Оскар ревниво следит, сколько раз мама приходит к нему на школьную постановку «Гамлета», и в конце концов резюмирует, что какой-то суд для нее важнее пьесы мирового значения.
Но читатель видит и оборотную сторону медали. По дороге на похороны мама расспрашивает Оскара, зачем тот раздает ключи от квартиры почтальону, швейцару и другим малознакомым людям. Она создает в этой сцене впечатление нервной, молчаливой женщины. Ей самой необходима поддержка после смерти супруга, но с отважным терпением она выслушивает категоричные и ранящие упреки сына и сдерживается изо всех сил («На заднем сиденье мама сжимала что-то внутри своей сумочки. Я это заключил, потому что видел на ее руке мускулы» [ibid.: 16]). Да и сам Оскар от обвинений часто переходит к абсолютно противоположным заверениям: «Я люблю изготавливать для нее украшения, потому что это ее радует, а радовать ее ‒ еще один из моих raisons d'être» [ibid.: 17]. Такие моменты убеждают читателя, что диссонансные отношения между мамой и сыном исправимы, ведь слова Оскара – попытка найти успокоение своим страхам.
Тем не менее Оскар не рассказывает маме о найденном ключе, а решает сослаться на температуру, пропустить школу и отправиться на поиски замка. Мама не спорит и разрешает мальчику остаться в постели. От имени мамы Оскар пишет записку учителю французского, что он больше не придет на уроки, но продолжит за них платить. Мама и тут ничего не говорит. Начинается одиссея по Нью-Йорку: так как на коробке с ключом стояла фамилия Black, Оскар решает обойти всех Блэков многомиллионного города. Укладывая сына спать, мама спрашивает, не хочет ли он поговорить с ней, но Оскар отказывается. Мама не настаивает. Даже Оскар, наконец, начинает удивляться маминой безалаберности: «Что было особенно странно, и в чем стоило разобраться ‒ так это почему она никогда ничего не уточняла, типа “По каким делам?” или “Когда позже?”, хотя обычно очень за меня волновалась, особенно после смерти папы» [ibid.: 45]. Всё проясняется неожиданно: миссис Блэк (№2) перезванивает Оскару и проговаривается, что была предупреждена о визите мальчика. Выясняется, что мама связывалась с каждым из Блэков перед приходом Оскара и каждого просила отнестись к мальчику с пониманием. Она ничего не спраши- вала и ничего не говорила, чтобы дать Оскару возможность самостоятельно распутать последнюю ниточку, ведущую к папе, восстановить веру в себя и в человечество. К сожалению, способ построения положительного образа матери от противного лишний раз доказывает, что перед нами ‒ исключение из правил.
Осознание важности искренних отношений родителя и ребенка происходит с обеих сторон, и нормой, как в реальной семье, так и в литературе, становится дружба, любовь, стремление выслушать и понять друг друга. Однако сложный мир, полный катастроф, ужасов, разочарований, существование, открытое в смерть, травмирующий опыт каждой жизни и отсутствие работающих в этой реальности розовых очков делают идеальное Я и идеальное МЫ невозможным. Веками складывавшиеся дихотомии и установки разрушаются или уходят в прошлое, перераспределяются гендерные, возрастные, социальные роли. Эти процессы наряду с инфантилизацией взрослых, децентрацией, аксиологической амбивалентностью способствуют популярности архетипа любящего, но безответственного родителя. Рассмотренные нами в романах проблемы архетипического сознания генерируют в себе потенциальные жизненные сценарии современного общества. Осознание установок и запускающих их механизмов ведет к возможности изменения сценариев, создает ситуацию осознанного выбора, что является одной из основных задач литературы для молодого поколения.
Список литературы Архетип безответственного родителя в англоязычном подростково-молодежном романе XXI века
- Афанасьева А. С. Архетип как единица семи-осферы // Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия: Филологическая. 2017. № 1(165). С. 40-46.
- Большакова А. Ю. Архетип - концепт - культура // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 47-57.
- Зелезинская Н. С. Подростковая литература как зеркало общества // Вопросы литературы. 2020. № 1. С. 159-175. doi 10.31425/0042-87952020-1-159-175
- Иванова М. Г. Духовное развитие как отражение архетипических сюжетов и смыслов культуры // Философия и культура. 2017. № 8. С. 128-146.
- Козлов А. С. Архетип. Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справочник. М.: Интрада, 1996. С. 194-195.
- Колчева Э. М. Понятие «культурный архетип» как инструментарий анализа национального искусства. Знание. Понимание. Умение. 2015. № 1. С. 254-263.
- Марков В. А. Литература и миф: проблема архетипов // Тыняновский сборник. Рига, 1990. С.133-134.
- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М.: Изд-во РГГУ, 1994. 136 с.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.625 с.
- Пятроуская Т. М. Мадэль значнага дарослага у сучасных падлеткавых творах. Куляшоускгя чытанш: сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 18-19 апр. 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. Могилев: Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова, 2020. С. 328-331.
- Сабельникова Е. В., Хмелева Н. Л. Инфантилизм: теоретический конструкт и операцио-нализация. Образование и наука. 2016. № 3. С. 89-105.
- Франц М.-Л. фон. Феномены Тени и зла в волшебных сказках. М.: Класс, 2010. 360 с.
- Хендерсон Дж. Культуральное бессознательное // Хендерсон Дж. Психологический анализ культурных установок. 2-е изд. М.: Добросвет; КДУ, 2007. 272 с.
- Эстес К. Бегущая с волками. Киев: София, 2008. 656 с.
- Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 97-128.
- Юнг К. Г. Структура психики и процесс индивидуации. М.: Наука, 1996. 267 с.
- Якушева Г. В. Архетип // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2003. С. 59.
- Cain B. Dirge of the Awakened Ones. Independently published, 2020. 578 p.
- Cart M. Young Adult Literature: From Romance to Realism. Study and Scrutiny Research on Young Adult Literature. 2018. Issue 3(1). P. 67-71.
- Foer J. Extremely loudly and Incredibly Close. Boston, NY: Houghton Mifflin Company, 2005. 326 p.
- Hornby N. About a Boy. London: Penguin Books, 1998. 278 p.
- Lockhart E. We Were Liаrs. Crowns Nest: Allen & Unwin, 2014. URL: http://thefreebooksonline.net/ mystery/u5974.html (дата обращения: 02.09.2021).
- Lockhart E. Discusses the Inspiration Behind We Were Liars: Interview. 2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6We48s2mXdA (дата обращения: 02.09.2021).
- Picoult J. Nineteen minutes. Atria Books, 2007. 464 p. URL: https://onlinereadfreenovel.com/jodi-picoult/page,7,31796-nineteen_minutes.html (дата обращения: 02.09.2021).
- Porter E. H. Pollyanna. Cricket House Books, LLC, 2010. 158 р.