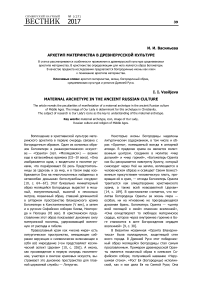Архетип материнства в древнерусской культуре
Автор: Васильева Ирина Ивановна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности проявления в древнерусской культуре средневековья архетипа материнства. В христианстве определяющим для него является образ Богоматери. В качестве предмета исследования предлагаются богородичные иконы как ключ к пониманию архетипа материнства.
Архетип материнства, икона, богородичный образ, средневековая культура и религия древней руси
Короткий адрес: https://sciup.org/14114411
IDR: 14114411
Текст научной статьи Архетип материнства в древнерусской культуре
Воплощение в христианской культуре материнского архетипа в первую очередь связано с богородичным образом. Один из основных образов Богоматери в раннехристианском искусстве — «Оранта» (лат. «Молящаяся») — возник еще в катакомбные времена (III—IV века). «Она изображается одна, с воздетыми в молитве руками, что подчёркивает Её роль Предстоятель-ницы за Церковь и за мир, и в таком виде изображается Она на многочисленных найденных в катакомбах донышках богослужебных сосудов» [10, с. 64—67]. Этот буквально миниатюрный образ молящейся Богородицы вырастет в мощный, монументальный, высотой в несколько метров, мозаичный образ, ставший доминантой в алтарном пространстве Влахернского храма Богоматери в Константинополе (V век), а затем и в русских Софийских соборах Киева, Новгорода и Полоцка (XI век). В христианском представлении этот образ показывает духовную силу материнской молитвы, удерживающей вселенную от распада и гибели.
Православный храм как «икона мира» есть литургическое пространство, вмещающее собрание верующих и символически включающее в себя всё мироздание («он представляет космический аспект Церкви» [10, с. 326]). А икона, как произведение в первую очередь молитвенное, участвуя в синтезе храмовых искусств, выстраивает это духовное пространство для главной церковной службы — Литургии.
Некоторые иконы Богородицы наделены литургическим содержанием, в том числе и образ «Оранта», помещаемый всегда в алтарной апсиде. В пределах храма он является молитвенным центром. Соединяя в молитве «мир дольний» и «мир горний», «Богоматерь-Оранта как бы раскрывается навстречу Христу, который снисходит через Неё на землю, воплощается в человеческом образе и освящает Своим Божественным присутствием человеческую плоть, превращая её в храм, — отсюда Богоматерь Оранта трактуется как олицетворение христианского храма, а также всей новозаветной Церкви» [14, с. 189]. В христианстве считается, что молитва Богородицы Оранты за жизнь мира — особая, ни на мгновение не прекращающаяся духовная брань. Богоматерь Оранта — «центр всей молящей о своём спасении вселенной», «Она олицетворяет то любящее материнское сердце, которое через внутреннее горение в Боге становится в акте Богорождения сердцем вселенной» [9, с. 30].
В Византии мозаичная «Оранта Влахерни-тисса» была палладиумом, защитницей стен всего города. В Древней Руси этот победоносный образ молящейся Богородицы стал самым прославленным. Примером древнерусской Оран-ты является мозаичный образ в киевском Софийском соборе, получивший название «Нерушимая стена». «Рост Ея (Богородицы) исполинский, как и все дела Ея на Святой Руси; Она стоит на золотом камне, в незыблемое основание всех притекающих к Ея защите; Ея хитон небесного цвета, червленый пояс и на нем висит лентион, которым Она отирает столько слез; лазуревые поручи на воздетых к небу руках; золотое покрывало опускается с Ея головы и перевешено в виде омофора на левое плечо, в знамение Ея покрова, ширшаго облак, по гласу церковных песен; светлая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на раменах, ибо Она, Сама Матерь Незаходимого Света, была для нас звездою незаходимого Солнца» [12, с. 89].
Более восьми веков эта икона в Софийском соборе Киева, считавшаяся на Руси чудотворной, оставалась неповрежденной, получив особое значение государственного символа защиты Руси от смертельной опасности.
Исследователь славянского язычества Б. А. Рыбаков в работе «Искусство древних славян» упоминает богиню Земли, именуемую Берегиней. Изображения этой богини «с поднятыми к небу руками, с солнечными дисками у головы» на предметах женского рукоделия дали повод Рыбакову назвать Берегиню Орантой и сделать следующий вывод: «Культ великой богини, зародившись в далёкую эпоху матриархата, стал впоследствии основным культом земледельческих племен и перешел в христианство в форме культа Богородицы» [7, с. 59—63].
Но христианский образ Богородицы Оранты как персонификация архетипа материнства не имеет магического аспекта, в отличие от образа языческой Берегини. В христианской религии богородичная молитва чужда магизму, так как прямо связана с христоцентричностью образа Богоматери. По этой причине культ Богородицы в истории Древней Руси вызвал упразднение культа «звериной Оранты» — языческой богини, магически слитой с природой, подверженной закону смерти.
Бобров Ю. Г. утверждает, что канонический византийский тип Богоматери Оранты называли также «Великая Панагия» (греч. «Всесвятая») (см.: [1, с. 222]). У Богоматери — «Великой Панагии» на груди в складках мафория или в медальоне обычно помещался образ Младенца Спаса-Эммануила. Он наглядно демонстрирует уникальное освящение идеи телесного храма Богородицы: «Бог посреди Ея и не подвижет-ся», подтверждая наименование иконы — «Все-святая».
В культуре средневековой Руси этот тип богородичных икон представлен, например, «Ярославской Орантой» (XIII век). Эта икона была создана около 1218 года византийским масте- ром, работавшим при великокняжеском дворе во Владимире для алтаря ярославского Успенского собора. Живописная икона не уступала по красоте мозаичным изображениям.
«Богоматерь представала перед верующими молящей Бога о даровании всем людям милости, а отрок Христос, возносимый Ею на золотом диске Славы, благословлял их обеими руками. Исполненные величия и царского достоинства образы Марии и Эммануила свидетельствовали о превращении Ярославля в такую же твердыню православия, каковыми считались все прочие «стольные» города Руси. <…>
Богоматерь, подобно византийским императорам, поднимавшимся в дни военных триумфов на красные помосты, стоит на узорчатом красном ковре. Как и Оранта в апсиде церкви Фео-токос Фарос, описанная патриархом Фотием, это «Дева, поднявшая за нас чистые руки и посылающая царю спасение и на врагов одоление» [6, с. 154—155]. Образ этой иконы должен был напомнить о победе князя Константина Всеволодовича в 1216 году, способствовавшей превращению Ярославля в удельную столицу: «Не случайно черты ликов Богоматери, Христа и архангелов иконописец обозначил четкими описями киновари: все они словно бы озарены отсветами пламени победных костров» [6, с. 155].
В древнерусской культуре образ Богоматери — «Великая Панагия» назывался также «Воплощение». Иконописцы нередко создавали его в поясном изводе. Такой иконографический вариант появился на Руси в XI веке, а с XII века он получил название «Знамение». В христианской иконописи богородичный образ «Знамение» ясно показывает заложенный в него догматический смысл воплощения Бога от Девы, согласно кульминационному моменту ветхозаветных пророчеств о Деве Марии — пророчеству Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» (Исайя, VII, 14). Образ Девы Марии с нагрудным диском, где изображен Христос Эммануил — воплотившийся Логос, указывает на исполнение этого пророчества. Руки Марии, отвечающей на зов Бога: «Се раба Господня, да будет Мне по слову Твоему» (Лк. I, 38), воздеты ввысь, а жест Младенца Эммануила, как правило, благословляющий.
Находясь в храме в конхе жертвенника, где совершалась первая часть литургической службы — Проскомидия, икона Богоматери «Воплощение» обладала богослужебной функцией: «Круглый медальон с изображением Спаса Эммануила, помещенный в лоне Богородицы, на- поминал об изъятии из круглой просфоры евхаристической частицы — «агнца» [13].
Самой знаменитой иконой типа «Воплощение» в русской средневековой культуре является новгородская икона, получившая в XII веке название «Знамение» (церк.-слав. — «чудо, знак»). О чуде, дарованном Богоматерью через эту икону, повествовало «Сказание о битве новгородцев с суздальцами», основанное на устной легенде и краткой записи в Новгородской I летописи. В сюжетной основе «Сказания» — поход в 1170 году суздальцев под предводительством сына Андрея Боголюбского Мстислава на Новгород, завершившийся необычной победой новгородцев. Согласно «Сказанию», новгородский архиепископ Иоанн, молившийся ночью о спасении своего города, услышал голос Богоматери, указавшей путь спасения от смертельной опасности: надо было с крестным ходом принести икону на софийскую сторону Новгорода и установить ее на крепостной стене. Икону повернули ликом к осаждавшим Новгород, и в лик попала вражеская стрела, исторгшая слезы из глаз Богоматери. Икона повернулась ликом к городу, а суздальцы, покрытые тьмой, стали избивать друг друга. Спасение было явлено Богородицей в тот самый момент, когда всякие человеческие действия уже не имели силы и казалось, что город был обречен на уничтожение. Однако вера новгородцев в помощь Богоматери оказалась сильнее смертельных обстоятельств и спасла их.
Кстати, существуют три иконы XV века «Битва новгородцев с суздальцами», где последовательно показаны эпизоды «Сказания». Первая находится в Новгородском музее, вторая — в Русском музее, а третья — в Третьяковской галерее. Но самой главной среди них считается легендарная икона XII века, ставшая палладиумом Великого Новгорода. Хоть она и повреждена временем, но по-прежнему глубоко поражает скорбный взгляд очей Богоматери, веками созерцавшей жестокость, озлобленность, варварство людей, их муки и страдания. Фигуры Богоматери и Младенца Иисуса Христа слиты в одно целое, зримо являя момент Боговоплощения и передавая силу материнской жертвенной любви. В руках Богомладенца евангельский свиток с учением, зовущим «возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, и всею душею твоею, и всем разумением твоим», а также «возлюбить ближнего твоего, как самого себя», чтобы победить звериный закон вражды, утвердившийся на земле. Об этом чуде превращения зверя в человека, подобного Богу, и молит Богородица Творца, воздев к Нему руки.
Из иконографических типов образа Богоматери самое широкое распространение в христианской культуре и религии Византии и Древней Руси получил тип «Одигитрия» (греч. «Путево-дительница»). «В соответствии с его канонической схемой фигура Богоматери представлена фронтально, на одной Ее руке, как на престоле, восседает Младенец Христос, другой рукой Богоматерь указывает на Него, тем самым направляя внимание предстоящих и молящихся. Младенец Христос одной рукой благословляет Мать, а в Ее лице и нас, в другой руке Он держит свернутый свиток» [14, с. 94—95].
Раскрытию духовного смысла этого образа помогает жест Богоматери, указующей на Спасителя от смерти — Иисуса Христа. Это подчеркнутое проявление христоцентричности «Одигитрии» позволило Н. П. Кондакову сделать вывод о том, что эта икона «представляет средоточие вообще христианской иконописи» [4, с. 152].
Как указывает Кондаков, в Византии «Оди-гитрия», появившись в V веке, в итоге стала государственной святыней, палладиумом и священной эмблемой империи.
На Руси иконы такого типа были известны еще в дохристианские времена, являясь в виде списков при князе Игоре (+945 г.) и святой княгине Ольге (+969 г.). Среди них, возможно, были иконы византийской работы подобного иконографического типа, например: «Корсунская-Эфесская», «Лиддская», «Холмская», «Изяслав-ская», «Минская». Иконы типа «Одигитрия» привез в Киев и крестившийся князь Владимир Святославович: «Иерусалимскую», «Корсунскую», «Холмскую», «Изяславскую» и «Минскую», таким образом введя их в русскую историю и культуру.
Во временных границах XI—XIV вв. в христианской Руси появились еще две считавшиеся чудотворными «Одигитрии»: «Смоленская» (XI век) и «Тихвинская» (XIV век), приобретшие за несколько веков значение защитного символа для западных и северных рубежей Руси. И хотя широкое распространение этого типа икон Богоматери начнется с XVI века, именно в это время на небосклоне русской истории возникает ярчайшая икона-звезда — «Казанская Богоматерь». Можно сказать, что история молодого русского государства складывалась под путеводной звездой «Одигитрии».
Остановим внимание на факте духовного общения с иконой «Одигитрия» только одного русского человека — Святого Преподобного Сергия Радонежского — «ангела-хранителя»
Руси. Согласно «Описи Троицкого монастыря» (XVII век), к келейным или моленным иконам преподобного Сергия принадлежала именно «Одигитрия» (список со Смоленского образа) — благословенный дар его родителей. Ее совершенное духовно-художественное описание оставил священник, богослов, ученый, искусствовед о. Павел Флоренский, считавший, что этот образ максимально выражает «органическое благородство, глубочайший аристократизм духа и тела Богоматери», представляющей Собой «избранный цветок избранного рода» [11, с. 260].
В истории и культуре русского Средневековья известен итог молитвенного подвига Святого Преподобного Сергия Радонежского: собор Радонежских святых, воспитание целого поколения новых русских людей, живших в духе любви к Отечеству, победа русского войска во главе с князем Дмитрием Донским, получившим благословение святого на Куликовскую битву, и расцвет Троицкого монастыря — центра духовно-культурного объединения Руси как следствие воздействия на русскую культуру почитания Пресвятой Троицы.
Явным на данном примере из жития Преподобного Сергия Радонежского является тот факт, что «икона была для человека XIV века духовною формою его самого, свидетельством его внутренней жизни» [11, с. 250]. У Преподобного Сергия, как и у большинства русских святых, был богородичный характер святости, основанный на лучших качествах Девы Марии: девстве, смиренномудрии и жертвенной любви к ближнему.
Но национальной и государственной эмблемой Древней Руси стала не «Одигитрия», а «Елеуса» (греч. «Умиление», «Милостивая»). Этот тип иконографии Богоматери максимально отразил понимание смысла богородичного материнского архетипа в древнерусской истории и культуре.
«Это наиболее лиричный из всех типов иконографии, открывающий интимную сторону общения Божией Матери со Своим Сыном. Иконографическая схема включает две фигуры: Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг к другу ликами. Голова Марии склонена к Сыну, а Он обнимает Мать за шею. В этой трогательной композиции заключена глубокая богословская идея: здесь Богородица явлена не только как Мать, ласкающая Сына, но и как символ души, находящейся в близком общении с Богом» [14, с. 96].
В этом описании в должной мере не раскрыта страстная символика «Умиления», хотя указание на близкое общение души с Богом ее подразумевает.
Как замечает Кондаков, «Елеуса», появившись в типе «Одигитрия», унаследовала от него страстную символику: «Наша икона «Умиление» представляет продолжение драматической композиции, носящей название «Страстной». Первая представляет испуг Младенца, в живом порыве сбросившего с ноги сандалию. Он первый увидел орудия Страсти, но Мать не только увидела их — Она поняла и сердечно сокрушилась будущим мученичеством Сына, меч пронзил Ее душу, и, видя глубокую скорбь на Ея лице, Младенец забыл свой испуг и прильнул к Матери, стараясь Ее утешить. Такова основная мотивировка «Умиления», сохраняемая затем большинством икон в основных чертах» [5, с. 153].
Любовь русских людей к иконам Богоматери типа «Елеуса» во многом возникла благодаря знаменитой византийской иконе «Богоматерь Владимирская» (XII век), получившей название по месту нахождения и прославления в Успенском соборе Владимира. Уже являясь палладиумом Владимиро-Суздальской земли, с духовным и политическим возвышением Москвы в конце XIV века эта национальная святыня обретает новый дом в Московском Успенском соборе — «Доме Богородицы». Будучи личной святыней царей и патриархов, князей и святителей Руси, она уже становится палладиумом Российского государства.
Христианское предание приписывает создание этого образа евангелисту Луке. Л. А. Успенский уточняет, что «авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками, или списками со списков икон, написанных когда-то евангелистом» [10, с. 46].
В искусствоведении создание этой иконы относится к началу XII века, связанному с периодом правления Македонской династии в Византии, когда там после иконоборческой эпохи расцвела иконопись. Были отменены постановления императоров-иконоборцев, возродился культ Богоматери, в честь Нее строились церкви и писались иконы. Распространение иконографического типа «Елеуса» было своеобразным ответом на богословские споры того времени о человеческой природе Иисуса Христа, подлинности Его рождения от Девы Марии.
Судьба и история «Елеусы» — «Владимирской» на Руси была связана не с богословскими спорами, а с тяжелыми испытаниями, ставящими Русь на край гибели. Эта икона-палладиум, фактически отождествляемая в народном сознании с Богородицей, неоднократно принимала участие в избавлении страны от вражеских полчищ.
Философ И. А. Ильин, оставив описание своего религиозного опыта соприкосновения с этой великой святыней, замечает: «Таинство мира — страждущая Мать. Таинство мира — Божественный Младенец. Любовь, Утешение, Жертва. Спасение мира через страдание невинности — именно божественной невинности» [2, с. 182].
После реставрации иконы «Богоматерь Владимирская» в конце XIV — начале XV века, когда были увеличены ее размеры, на обороте появилось изображение Престола Уготованного с орудиями Страстей Христовых и Голгофского Креста. Эти парные образы говорят о том, что икона участвовала в Литургии.
Важно и то, что это новое изображение закрепило за иконой ее принадлежность к теме Голгофы (в частности, к теме крестного пути России).
Ильин писал, что мировая скорбь есть «вечна тема русского миросозерцания и культуры. Мировая скорбь, в которой Божественное испытывает страдания за небожествененое и человеческое и ищет от него избавления» [3, с. 188].
Печать именно такой мировой скорби есть на лике «Владимирской Богоматери», называемой в русской христианской культуре «сердцем России».
Но христианство — такая религия, которая не знает состояния духовной безнадежности благодаря реальному переживанию пасхальной победы над смертью. Потому углубленная скорбь Богоматери не безысходна. Знаток русской иконы Н. М. Тарабукин пишет о «Владимирской Богоматери»: «В мире — Голгофа. Но Голгофа — лишь путь, а не цель. Голгофа каждого из смертных есть горнило, очищающее дух и возводящее его в горние высоты. Страдание — путь к радости. Едва заметная улыбка, как утренняя заря, брезжит на Ее устах, просветляя скорбь. Провидя грядущее воскресение Сына, Богоизбранница предвидит преображение всякого, кто «возьмет крест свой и последует за Мной» [8, с. 157].
В течение истории Руси, находясь в духовном общении с этим образом Богоматери, русский человек опытно познавал милосердную и жертвенную основы христианской любви. Поэтому «Владимирская» икона Богоматери — идеал русской любви к Богу Любви, и нет в России такого храма, где не было бы этой иконы.
В последующие века русской истории и культуры появятся многочисленные иконы — варианты типа «Елеусы», например: «Игорев-ская», «Белозерская», «Феодоровская», «Толг-ская», «Ярославская», «Петровская», «Донская», «Почаевская» и многие другие. Так, именно через богородичные иконы типа «Еле-уса» (особенно благодаря сугубому почитанию «Владимирского» образа) в русской христианской культуре и религии Средневековья максимально раскрылись такие отличительные особенности материнского архетипа, как милосердие и жертвенность, в силу христоцентричности образа Богоматери абсолютно слитые в нем с идеей страдания и жертвоприношения Сына.
-
1. Бобров Ю. Г . Основы иконографии древнерусской живописи. СПб. : Аксиома, Мифрил, 1996. 256 с.
-
2. Ильин И. А . Сущность и своеобразие русской культуры. М., 1996. № 4. С. 166—186.
-
3. Ильин И. А . Сущность и своеобразие русской культуры. М., 1996. № 10. С. 175—190.
-
4. Кондаков Н. П . Иконография Богоматери : в 2 т. Т. 1. М. : Паломник, 1998. 382 с.
-
5. Кондаков Н. П . Иконография Богоматери : в 2 т. Т. 2. М. : Паломник, 1998. 462 с.
-
6. Масленицын С. Н . Живопись Владимиро-Суздальской Руси (1157—1238 гг.). М. : Изобразительное искусство, 1988. 263 с.
-
7. Рыбаков Б. А . Искусство древних славян // История русского искусства : в 13 т. Т. 1. М. : АН СССР, 1953. С. 39—94.
-
8. Тарабукин Н. М . Смысл иконы. М. : Изд-во православного братства св. Филарета Милостивого, 1999. 223 с.
-
9. Трубецкой Е. Н . Три очерка о русской иконе: умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе. М. : Инфо-Арт, 1991. 112 с.
-
10. Успенский Л. А . Богословие иконы Православной Церкви. М. : Изд-во братства во имя св. Александра Невского, 1997. 656 с.
-
11. Флоренский П. А . Избранные труды по искусству. М. : Изобразительное искусство, 1996. 285 с.
-
12. Чудотворные иконы Богоматери / сост. А. А. Воронов, Е. Г. Соколова. М. : АО АРКТУР — ТНПА Открытый мир, 1993. 152 с.
-
13. Шалина И . Образ Богоматери в прославленных и чудотворных иконах // Пречистому образу Твоему поклоняемся… Образ Богоматери в произведениях Русского музея / ред. Н. Обновленская. СПб. : ГРМ, 1995. С. 144—149.
-
14. Языкова И. К . Богословие иконы. М. : Изд-во Общедоступного Православного ун-та, 1995. 212 с.
Список литературы Архетип материнства в древнерусской культуре
- Бобров Ю. Г Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. 256 с.
- Ильин И. А. Сущность и своеобразие русской культуры. М., 1996. № 4. С. 166-186.
- Ильин И. А. Сущность и своеобразие русской культуры. М., 1996. № 10. С. 175-190.
- Кондаков Н.П. Иконография Богоматери: в 2 т. Т. 1. М.: Паломник, 1998. 382 с.
- Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: в 2 т. Т. 2. М.: Паломник, 1998. 462 с.
- Масленицын С. Н. Живопись Владимиро-Суздальской Руси (1157-1238 гг.). М.: Изобразительное искусство, 1988. 263 с.
- Рыбаков Б. А. Искусство древних славян//История русского искусства: в 13 т. Т. 1. М.: АН СССР, 1953. С. 39-94.
- Тарабукин Н.М. Смысл иконы. М.: Изд-во православного братства св. Филарета Милостивого, 1999. 223 с.
- Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе: умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе. М.: Инфо-Арт, 1991. 112 с.
- Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. М.: Изд-во братства во имя св. Александра Невского, 1997. 656 с.
- Флоренский П. А. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996. 285 с.
- Чудотворные иконы Богоматери/сост. А. А. Воронов, Е. Г. Соколова. М.: АО АРКТУР -ТНПА Открытый мир, 1993. 152 с.
- Шалина И. Образ Богоматери в прославленных и чудотворных иконах//Пречистому образу Твоему поклоняемся. Образ Богоматери в произведениях Русского музея/ред. Н. Обновленская. СПб.: ГРМ, 1995. С. 144-149.
- Языкова И. К. Богословие иконы. М.: Изд-во Общедоступного Православного ун-та, 1995. 212 с.