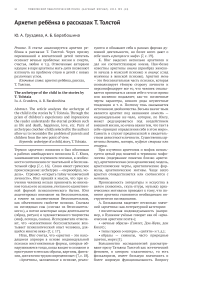Архетип ребёнка в рассказах Т. Толстой
Автор: Груздева Юлия Алексеевна, Барабошина Анастасия Борисовна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется архетип ребёнка в рассказах Т. Толстой. Через призму переживаний и впечатлений детей читатель осознает вечные проблемы: жизни и смерти, счастья, любви и т.д. Отмеченные авторами идущие в паре архетипы мать-дитя позволяют взглянуть на проблему отцов и детей с новых различных углов.
Архетип ребёнка, рассказ, т. толстая
Короткий адрес: https://sciup.org/14219619
IDR: 14219619
Текст научной статьи Архетип ребёнка в рассказах Т. Толстой
Термин «архетип» появился и был обоснован в работах швейцарского психолога К. Г. Юнга, занимавшегося изучением психики, в особенности соотношения сознательной и бессознательной сфер [7, с. 16]. Слово имеет греческое происхождение: archetypes – «первообраз, модель». Стремясь «открыть тайну человеческой личности», Юнг пришёл к мысли, что при изучении человека нельзя принимать во внимание только его сознание, считая его единственной формой психологического бытия. Юнг акцентировал внимание на бессознательном, а точнее на коллективном бессознательном, как объективном свойстве психики. Сначала он исследовал сны («сигнал из бессознательного»), а потом некоторые виды деятельности (обряд, ритуал) и художественного творчества (миф, легенда, сказка). Исследователи отмечают, что «коллективное бессознательное впитывает психологический опыт человека, длящийся многие века» [7, с. 17].
Итак, Юнг считал, что «архетип – это находящиеся априори в основе индивидуальной психики инстинктивные формы, которые обнаруживаются тогда, когда входят в сознание и проступают в нем как образы, картины, фантазии, достаточно трудно определимые» [7, с. 18].
«Архетипы, заложенные в психике, реали- зуются и обнажают себя в разных формах духовной деятельности, но более всего дают о себе знать в ритуале и мифе» [7, с. 19].
К. Юнг выделил несколько архетипов и дал им соответствующие имена. Наиболее известны архетипы анима (прообраз женского начала в мужской психике) и анимус (след мужчины в женской психике). Архетип тень – это бессознательная часть психики, которая символизирует тёмную сторону личности и персонифицирует все то, что человек отказывается принимать в самом себе и что он прямо или косвенно подавляет, как-то: низменные черты характера, всякого рода неуместные тенденции и т. п. Поэтому тень оказывается источником двойничества. Весьма значимым является архетип под названием самость — индивидуальное начало, которое, по Юнгу, может редуцироваться под воздействием внешней жизни, но очень важно тем, что таит в себе «принцип определения себя в этом мире». Самость и служит предпосылкой и свидетельством целостности личности. Существенны архетипы дитяти, матери, мудрого старика или старухи .
При изучении архетипов и мифов используется целый ряд понятий и терминов: мифологема (содержание понятия близко архетипу), архетипическая (или архаическая) модель, архетипические черты, архетипические формулы, архетипические мотивы. Чаще всего архетип отождествляется или соотносится с мотивом .
Пронизанность литературы и искусства в целом (живопись, скуль-птура, музыка) архаическими мотивами приводит к тому, что понятие архетипа становится необходимым инструментом исследования.
А. Большакова выделяет несколько значений «архетипа» как литературной категории:
-
• писательская индивидуальность (например, о Пушкине учёные говорят как об «архаическом архетипе поэта»);
-
• «вечные образы» (Гамлет, Дон-Жуан, дон Кихот);
-
• типы героев («матери», «дитяти» и т. д.);
-
• образы — символы, часто природные (цветок, море) [1].
Большинство исследователей рассматривают прозу Татьяны Толстой как эстетический феномен, в котором «сказочность», то есть фольклоризм, имеет большую значимость и более широкую функциональность. Вопросу функциональности интертекста, в том числе и фольклорного, в толстовском творчестве посвятили свои работы О. В. Богданова, А. Жолковский, Е. Невзглядова, Н. Иванова, И. Грекова. Исследователи отмечают, что элементы интертекста, проявляющие себя как в тематике, так и в поэтике произведений Т. Толстой, обладают множеством функций: выражают авторскую оценку, характеризуют персонажей и ситуации, способствуют типизации изображаемого, актуализируют скрытые текстовые смыслы. Фольклоризм писательницы связан с желанием вернуть читателей во времена, которые забыты современниками, но очень важны для национальной самоидентификации.
Как уже было сказано, одним из фундаментальных архетипов является архетип «ребёнок», «младенец» или «дитя». С точки зрения К. Г. Юнга, архетип «Божественный ребёнок» символизирует самость, пробуждение индивидуального сознания из стихии коллективно-бессознательного. Младенец являет собой и начало и конец – идея всеобъемлющей психической целостности, поэтому появление образа младенца свидетельствует об определённом синтезе личности. Кроме того, Юнг отмечал отрицательную связь архетипа «ребёнок» с архетипом «трикстер», имеющим две схожих характеристики – весёлый и смешной. Так, «ребёнок» выражает положительное начало личности, а «трикстер» отражает более иррациональные, негативные характеристики, несущие в себе оттенки зла. Получается, что архетип самости имеет два аспекта: позитивный (ребёнок) – весёлый, милый, беззаботный; негативный (трикстер) – хитрый, весёлый, смешной, ловкий, подлый, лживый, двуличный.
Кроме того, следует отметить, что архетип «ребёнка» часто соседствует с архетипом «матери». Именно это читатель наблюдает в рассказе Т. Толстой «Ночь». В образе ребёнка здесь предстаёт Алексей Петрович. Это взрослый мужчина с задержкой в развитии. Перед нами ребёнок в теле взрослого. У него щетина и лысина, но он чужой в этом теле. Более того, он чужой в этом мире «Мужчин и Женщин». Точнее сказать, мир его состоит из Мужчин, Женщин и Мамочки. Она – его путеводная звезда и защитница. Главный герой наивен и несамостоятелен. Чтобы ориентироваться в этом чуждом мире, он во всем следует указаниям Мамочки: « Хорошо, хорошо, Мамочка. Вот как ты все правильно говоришь. Как все сразу понятно …» [6]. Он беззащитен, особенно он боится женщин: « Женщины - очень страшно. Зачем они - неясно, но очень беспокойно » [6]. Что интересно, автор указывается на двойственность Алексея Петровича: « А второй Алексей
Петрович, внутри, все съёживается, съёживается, сжимается, пропадает в маковое зёрнышко, в острый кончик иголки, в микробчика, в ничто, и если его не остановить, он совсем туда уйдёт. Но внешний, гигантский Алексей Петрович корабельной сосной раскачивается, растёт, чиркает лысиной по ночному куполу, не пускает маленького уйти в точку. И эти два Алексея Петровича - одно и то же. И это понятно, это правильно » [6]. И вот в какой-то момент один из Алексеев Петровичей вырывается на свободу и крадёт деньги. Он убегает в ночь. Возможно, в этот момент и появляется «трикстер». И когда эта вырвавшаяся сущность пытается управлять героем, тот сталкивается с жестоким миром Мужчин и Женщин. И тогда вновь возвращается напуганный ребёнок, которого «ведут под уздцы» в «тёмную нору».
Юнг резко противопоставляет сознание, с детства воспитанное в человеке обществом (способность мыслить словами, традиционный разум и здравый смысл, которые формируют эго – вместе с его эгоизмом) и возникающее в нём личное зрелое самосознание (самость). Самость представляет собой сердцевину личности, вокруг которой организованы все другие элементы. И именно в её развитии Юнг видел смысл человеческой жизни.
Алексей Петрович из проанализированного рассказа лишён самости в силу своей болезни, а герой рассказа «Петерс» лишается её в результате воспитания. Уже в начале повествования читатель встречает нетипичного ребёнка: он не рвёт книжки, не хулиганит. « За столом он никогда не выщипывал бахрому из скатерти и не крошил печеньем – чудный был мальчик » [5, с. 157]. Необычно и его имя – Петерс. Оно больше подходит для взрослого и степенного мужчины, а не для мальчика. А ведь имя – это то, что определяет человека. В древние времена во время инициации духовный учитель давал ребёнку духовное имя. Но инициация означала переход во взрослую жизнь, а бабушка уже в столь юном возрасте дала внуку такое неподходящее возрасту имя. И поведение мальчика соответствовало прозванию: « степенно одёргивал бархатную курточку, поправлял бант или кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабушкиных щёк, и, шаркнув толстой ножкой, представлялся старухам: «Петер-с!» ». [5, с. 158]. Стремясь хорошо воспитать внука, бабушка как бы «спрятала» в нем ребёнка. Поэтому и реакция взрослых на его поведение такова: « это смешило и умиляло » [5, с. 158].
Детство мальчик наблюдал через окно, за которым был для него другой мир: «(он) подходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, на солнечный мороз, где летали сизые голуби и съезжали с накатанных горок румяные дети» [5, с. 159]. Таким образом, окно является своеобразным проводником к гармоничной личности Петерса. Ведь за стеклом – люди, общество, которого так не хватало герою. Отсутствие гармоничного развития заставляет Петерса застыть в состоянии детства, стать «вечным ребёнком».
Представление о мире у мальчика складывалось из рассказов взрослых, а точнее, бабушки, в которой воплощаются черты архетипического образа матери. Она защитница, которая оберегает брошенное всеми дитя от враждебного мира. Она верит, что если мальчик отгородится от мира, то беды не постигнут его. « Бабушка обещала Петерсу, что если он будет вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить он будет замечательно » [5, с. 159]. Что значило вести себя хорошо? Главное – чинно помалкивать, что и делал мальчик.
Единственный собеседник Петерса в детстве – игрушечный заяц. Мальчик рассказывал ему о своей будущей замечательной жизни: о друзьях, вернувшейся маме с негодяем, о лёгких женщинах и т.д. Но здесь мы встречаем важное уточнение: « словно во сне » [5, с. 159]. Возвращаясь к учению Юнга о бессознательном, следует отметить важную взаимосвязь архетипа и сна. Именно через сон выражаются тайные помыслы и желания. Отражается то, что человек не может сказать днём. Ребёнок, брошенный родителями, запертый в квартире с бабушкой, мечтает об общении, словно видит сон о прекрасной жизни. И его единственный друг – заяц – верит ему. Сам же мальчик, похоже, в глубине души не верит.
Игра, в которую играют бабушка и внук, «Чёрный Петерс», она же «Чёрный Петр» – старинная карточная игра. В рассказе она немного видоизменена. Но суть остаётся та же: остаётся одна лишняя карта. В классической версии – пиковый туз. В рассказе: « только коту, Чёрному Петеру, не доставалось пары, он всегда был один - мрачный, нахохлившийся » [5, с. 158]. Вот и Петерс чувствует себя «лишней картой».
В шесть лет, когда бабушка повела его в гости, он думал, что началась для него «замечательная жизнь», полная общения. « Он спешил дружить » [5, с. 15]. Он предполагал, что началось его настоящее детство. Но он не знал, как «дружить».
Так, мы видим, как герой впервые сталкивается с обществом. И общество вроде бы готово его принять, но он не знает «правил игры». Таким образом, закладывается конфликт между героем и обществом. Оно как бы чувствует, что он не такой как все, что он лишний.
Но даже и это было не так важно. Главное – проблеск детства, радости! «Потом ему за- хотелось кружиться на одном месте и громко кричать, и он кружился и кричал…» [5, с. 158]. Почувствовав радость детства и свободу, мальчик поддался своим эмоциям и порывам. Ему захотелось просто побыть ребёнком. Но вот бабушка увела его домой и сказала, «что никогда больше в гости к детям они не пойдут» [5, с. 158]. Даже в самом построении предложения видно, что бабушка отделила мир обычных детей и Петерса. Он был «старым ребёнком» и остался им на всю жизнь. Петерс будто находился на границе взрослого мира и детского, так и не попав ни в один из них.
В рассказе «Петерс» у героя будто бы две матери. Одна бросила его в раннем возрасте, другая оберегала его до самой своей смерти. Таким образом, Толстая изображает два противоположных полюса образа матери: с одной стороны, гиперопека, лишающая ребёнка «самости», с другой – безответственность, равнодушие к судьбе дитя.
Но вот прошло время, умерла бабушка, казалось бы, наступила свобода, но Петерс, будучи оберегаемым «матерью», замер в состоянии детства. Его инфантилизм бросается в глаза. Все вокруг даже не считают его мужчиной и воспринимают, как дитя.
Его мир никак не мог прийти в лад с окружающим. Ответы приходили во сне. « Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирал двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вёл по тёмным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей. Петерс бился в простынях, просил прощения и, прощённый на этот раз, вновь погружался на дно до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра » [5, с. 158]. Здесь то, чего герой не знает, боится и в то же время желает. Таким образом, можно трактовать сон Петерса как проявление темных сторон его личности, появление Трикстера. Петерс мечтает о романах «с роскошной женщиной», о темной и недоступной Фаине, о Валентине… Трикстер будто нашёптывает ему тайные желания. А бедный Петерс мечтает о любви, о романе, хотя и не представляет до конца, что это такое.
Прошло много-много лет. В его жизни появилась другая «бабушка». А точнее, очередная «мать». Писательница обезличивает её – это просто женщина. Петерс «женился на холодной твёрдой женщине с большими ногами, с глухим именем» [5, с. 160]. Она будто отзвук бабушки, бледный след. Петерс тем временем состарился физически. Но однажды, «когда тело его ещё помнило глушь пролетевших лет, тягучий сон календаря, но в глубине душевной мякоти уже оживало, приподнималось с лежанки, встряхивалось и улыбалось что-то давно забытое, молодое что-то и доверчивое», в нем проснулся ребёнок. И он, «ничего не желая, ни о чем не жалея» «благодарно улыбнулся жизни» [5, с. 160161].
В рассказе «Любишь – не любишь» повествование ведётся от лица девочки, что показывает (по контрасту с ранее названными рассказами), как богат, ярок и причудлив мир детства: под кроватью « лежит Змей: в шнурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке - крюк. Днём Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо тихо ждёт: кто посмеет свесить ногу? И сразу - хвать крюком! Вряд ли съест, но затащит и пропихнёт под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок » [5, с. 187]; комнату сторожат и другие существа. Но самое страшное: « тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!). Много раз он приноравливается схватить, но как-то все упускает момент и медленно, с досадой опускает бесплотные руки » [5, с. 187]. Простуда тоже не так проста. « Сорокоградусные гриппы » кричат, шумят и стучат. Болезнь проходит так: « набьют в красные барабаны, обступят со всех сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трёхзначными числами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, - сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного! вот ещё чуть-чуть! сердце не выдержит, лопнет, - но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой круглый хлеб на тонких ножках по аэродромному полю - и затихло... только самолётики бука-шечными… » [5, с. 187]. Для ребёнка радости и удивительные чудеса встречаются в обычных вещах. Поход на барахолку был для девочки сравним с поиском клада: « Какие там были сокровища! » А взрослые и не видят всего, что видят дети: « сколько там папа прошляпил ». [5, с. 187]
Весьма необычны сказки, которые няня рассказывает детям на ночь: « Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с золотыми коронами; он же что-то выделывает с конём... » [5, с. 187] . Или: « И когда ей было пять лет - как мне, - царь послал её с секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: «Ни за что!» И выстрелил из пушки [5, с. 187].
Причудливая смесь из привычных народных сказок и выдумок няни Груши гармонично вплетается в повествование. Все это помо- гает создать образ няни, противопоставляет её Марьиванне с её утончённым французским. Первая – няня, нянюшка. Она добрая и любимая детьми, языков не знающая, зато рассказывающая сказки. В мире ребёнка она – идеал заботы и преданности, поэтому слова А. С. Пушкина «голубка дряхлая моя» ребёнок относит к ней. Она выражает тот архетип Матери, который необходим слабому и беззащитному ребёнку. Няня Груша позаботится, утешит и защитит: «Нянечка размотает мой шарф, отстегнёт впившуюся пуговку, уведёт в пещерное тепло детской, где красный ночник, где мягкие горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречневой кашей» [5, с. 188]; «нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймёт сердцем, как понимает зверь - зверя, старик -дитя, бессловесная тварь - своего собрата» [5, с. 188].
С другой стороны, Марьиванна, которая « гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски » - такая далёкая и холодная, чуждая детям, застрявшая в своём прошлом, где есть чужая девочка. Но, главное, няня знает ключ к детскому сердцу – это любовь. И потом, когда Марья Ивановна встретит «другую девочку», героиня подумает: « а меня- то так не любят ».
Следует отметить конфликт, указанный писательницей: « как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа » [5, с. 189]. Конфликт между «враждебным миром» и нежной душой ребёнка. « Уйдите все, оставьте меня, вы ничего не понимаете! В груди вертится колючий шар, и невысказанные слова пузырятся на губах, размазываются слезами » [5, с. 189]. Сложный, запутанный мир ребёнка нуждается в опоре и в ответах. Но это и жестокий мир, порой не терпящий непонимания и безответности.
Рассказ «На златом крыльце сидели» тоже содержит архетип «ребёнка». В качестве эпиграфа дана детская считалочка, во втором предложении рассказа автор даёт свою формулу детства: «Детство – это сад». Это пора цветения, красоты и чудес. « Без конца и края, без границ и заборов, в шуме и шелесте, золотой на солнце, светло-зелёный в тени, тысячеярусный - от вереска до верхушек сосен » [5, с. 190]. Мир ребёнка – это мир таинственных открытий, закреплённых обещанием «не говори маме». Мать в этом рассказе как бы за кадром, но ощущается её постоянное присутствие: она всегда даст совет, поможет.
Ребёнка нельзя обмануть, его взгляд самый правдивый, самый острый. Так, дети с самого начала понимают истинную сущность харак- тера Вероники, которая представляется им «самой жадной женщиной на свете». В сцене разделки зарезанного ею телёнка им справедливо видится «кошмар, ужас — холодный смрад — сарай, сырость, смерть», от которых надо бежать. Таким образом, уже в детстве человек постигает скрытую сторону, «изнанку» жизни.
Для прозы Т. Толстой характерно обращение к вечным проблемам, её творчество ориентировано на понимание добра и зла в современном мире. Произведения писательницы повествуют о «детском» взгляде на мир, который полон чудес и несовершенств, который одновременно прекрасен и страшен и в котором всегда есть разлад «мечты и действительности». Татьяна Толстая постоянно пользуется приёмами «эстетического спасения» своих героев: она или «заставляет» бежать их в замкнутый мир детства, или отгораживает их «от пошлой будничности». Причём если герои в реальной жизни не могут обрести счастья, то в художественном мире Толстая создаёт для них островки счастья. Обыкновенный мир, в котором благостно существуют герои Толстой, – это мир детства взрослого ребёнка («На золотом крыльце сидели…», «Любишь – не любишь», «Свидание с птицей», «Петерс» и др.).
Таким образом, с помощью архетипа ребёнка Т. Толстая помогает читателю взглянуть на мир глазами детей. Через призму их переживаний и впечатлений посмотреть на вечные проблемы: счастья, жизни и смерти, любви и т.д. Кроме того, идущие в паре архетипы мать-дитя позволяют взглянуть на проблему отцов и детей с новых различных углов. А архетип трикстера отражает тайные стороны, помыслы, страхи и желания.
Список литературы Архетип ребёнка в рассказах Т. Толстой
- Большакова А.Ю. Теория архетипа и концептология//Культурологический журнал. 2012. № 1 (7): : URL: http://www.cr-journal.ru/rus/joumals/109.html&jJd=9 (дата обращения: 10.10.15). № гос. регистрации 0421200152/0008.
- Воронцова Л.И. Архетипические образы матери и ребенка в творчестве Л. Петрушевской//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 16. № 2 (2). 2014.
- Генис А. Беседы о новой словесности//Звезда. 1997. № 4. С. 13-28.
- Попова И.М., Любезная Е.В. Феномен современной женской прозы//Вестник ТГТУ. 2008. Том 14. № 4.
- Толстая Т.Н. На златом крыльце сидели.: рассказы/М.: Эксмо, 2012.
- Т. Толстая: : http://www.lib.ru/PROZA/TOLSTAYA/r_night.txt_with-big-pictures.html (дата обращения: 05.10.15).
- Чернец Л.В. Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины. М., 1999.
- Шанина Ю.А. Архетип ребёнка в английской литературе второй половины XX века//Культура и текст. 2014. № 1 (16).
- Энциклопедия символов. М., 1995.