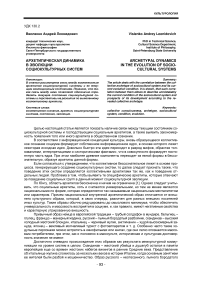Архетипическая динамика в эволюции социокультурных систем
Автор: Висленко Андрей Леонидович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена связь между коллективным архетипом социокультурной системы и ее текущим эволюционным состоянием. Показано, что такая связь между ними позволяет однозначно определять текущее состояние социокультурной системы и перспективы ее развития по выявленному коллективному архетипу.
Коллективное сознание, архетип, социокультурная система, состояние, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/14936920
IDR: 14936920 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Архетипическая динамика в эволюции социокультурных систем
Целью настоящей статьи является показать наличие связи между текущим состоянием социокультурной системы и господствующим социальным архетипом, а также выявить закономерность появления того или иного архетипа в общественном сознании.
В соответствии с информационной концепцией культуры, вновь образующееся коллективное сознание социума формирует собственное информационное ядро, в основе которого лежит некоторая исходная идея. Довольно быстро эта идея переходит в разряд мифов, обрастая толкованиями, интерпретациями и «историческими фактами», что в совокупности формирует постоянную часть ядра. При этом наиболее древние компоненты переходят из явной формы в бессознательную, образуя архетипы данной формы.
Если согласиться с утверждением, что коллективное бессознательное лежит в основе процесса, генерирующего создание социокультурных систем, то далее следует признать также, что поведение этих систем определяется коллективными архетипами так же, как и поведение отдельных людей. Проблема в том, чтобы выявить те специфические архетипы, которые отвечают за поведение социальных групп в данный момент социокультурной эволюции.
По Юнгу, область архетипов бесконечна и ничем не ограничена [1]. Однако следует учитывать, что социальные архетипы, хоть и считаются универсальными, но тем не менее являются национальными по форме, которая определяется так называемым национальным менталитетом или характером. Причем национальный внутренний архетипический образ отличается от внешнего культурного образа, который, в свою очередь, различен для разных внешних носителей иных культур. Такие образы обычно редуцированы до смыслового минимума, чтобы обеспечить универсальность и массовость восприятия в социуме, и, как правило, имеют негативные свойства и характерную утрированную внешность.
Привычный образ немца в европейской традиции – грубый солдафон в мундире, бельгиец – глупец, француз – манерный жадина, русский – пьяный бородатый разбойник, скандинав – высокий холодный жестокий блондин, итальянец – чернявый жулик, англичанин – худой высокомерный зануда, японец – вежливый молчаливый турист с фотоаппаратом и т. д. Особенно часто такие ходульные персонажи можно встретить в кинофильмах или книгах, где они легко опознаются массовым потребителем, при этом, как и положено в масскульте, историческая и культурная достоверность значения не имеют.
Достаточно очевидно происхождение этих образов как результата межкультурной коммуникации на уровне систем в целом. Скандинав – жестокий убийца и душегуб остался в памяти европейцев еще со времен жестоких набегов викингов в ранние Средние века. Представление об итальянце-жулике сложилось за нескольких веков в истории Италии, когда основным занятием ее жителей были разбой и мошенничество. Образ русского – неотесанного, пьяного бородатого казака сформировался в европейском ментальном пространстве в конце XVIII – первой половине XIX вв. в связи с пропагандой во время прусских войн, походов Суворова, войны против Наполеона и взятия Парижа, а закрепился в первой половине ХХ века. Сегодня он уже постепенно уступает место новому, но не менее неприятному персонажу – члену жестокой русской мафии, появившейся на Западе после перестройки и распада СССР.
Эти и другие образы живут и изменяются в ходе исторических событий, но изменяется при этом только внешняя форма, сохраняя содержание образа и тем самым прежний способ межкультурной коммуникации. Совсем по-другому образуются и живут архетипические образы, обеспечивающие внутреннее социокультурное поведение индивидуумов в социуме.
Исходя из строения социокультурного информационного ядра, можно предположить, что коллективные архетипы и соответствующие образы, отвечающие за поведение социокультурных систем, подразделяются на два класса:
– короткоживущие (условно переменные ), которые соответствуют текущей социокультурной ситуации и связаны с предпочтениями, интересами и поведением элиты социума в данный исторический период;
– длительные (условно постоянные ), которые имеют своим источником исторически обусловленные национальные особенности, характерные и традиционные для данной социокультурной системы в целом, носителем которых является основная масса населения.
Примером переменных архетипов являются сменяющиеся образы, формирующие коллективное сознание элиты, как реакция на социокультурное состояние системы, данное Л.Н. Гумилевым в форме пафосных лозунгов при описании повторяющейся последовательности фаз изменения уровня пассионарности в социуме по его этносоциальной модели [2] (что не отменяет применимости этих формулировок и их архетипов при рассмотрении архетипических образов в нашей информационной модели):
Будь тем, кем ты должен быть! – архетип Героя;
Мы устали от великих! – архетип Творца;
Будь таким, как я! – архетип Отца и т. д.
Поиск постоянных архетипов, возможно, надежнее всего приведет к результату при рассмотрении творчества поэтов и писателей, творивших в переломное, критическое для их общества время, через те мифические образы, которые использовались ими в своих произведениях. Показательным в этом смысле оказывается соотношение между такими образами, проявлявшимися в творчестве русских поэтов-эмигрантов и поэтов нового, советского времени.
Появление в общественном коллективном сознании архетипа Матери связано, как представляется, с одной стороны, с интуитивным, почти детским страхом перед подсознательно, но вполне отчетливо ощущаемым приходом перемен, а с другой стороны, с тревожным ожиданием рождения неизвестного нового мира. Одним из наиболее тонких и чувствующих поэтов своего времени был А.А. Блок, который, возможно, одним из первых почувствовал изменения в коллективном сознании русского общества. Не случайно поэтому его цикл стихотворений о Прекрасной Даме (1904) сразу же стал очень популярен и выделил его среди других поэтов того времени, в первую очередь потому, что отразил внутреннее состояние коллективного сознания социума, уже созревшего для перемен, еще не осознанных никем, кроме Поэта.
Результатом развития коллективного архетипического женского образа в его творчестве стал обобщенный образ Родины в одноименном цикле (1907–1916), и особенно в стихотворении «Россия» («Опять, как в годы золотые…», 1908), ставшего самым известным в цикле. Обращение автора к своей Родине «О, Русь моя! Жена моя!» [3] , конечно, не следует воспринимать буквально, а только в контексте тех смыслов, который вкладывался в слово жена символистской поэзией – это все возможные ипостаси женщины: жена, мать, подруга, наконец, и, возможно, самое главное, Богородица.
Начавшись с образа таинственной Прекрасной Дамы, насыщенного тонкой и сложной символикой, в последующих стихотворениях Блока Россия предстает у него все еще красивой и статной, но уже слабой, печальной и все чаще плачущей женщиной, что показывает, как в творческом сознании Блока происходило изменение осознания, ощущения и чувствования своей Родины, ее горькой судьбы. Логичным итогом развития этой архетипической динамики стало рождение Рос-сией-Богородицей нового Бога: «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос» (1918). Буквально открытым текстом Поэт объявляет о появлении новой победоносной религии, а вместе с ней – новой культуры и нового общества. Можно сказать, что именно так в его внечувственном восприятии отразился фазовый переход социокультурной системы через точку неопределенности между ее двумя стабильными состояниями.
А теперь обратим внимание на те аллегории и метафоры, которые использовали в своих произведениях поэты, не принявшие новые культурные и социальные формы и писавшие о своих патриотических чувствах позже, уже в 20–30-е гг.
Яркий, но очень трагический образ России еще живет в их сознании и творчестве в первые годы после революции: «Россия, звезды, ночь расстрела» (В. Набоков), «Сторона ль моя, сторонка, горевая полоса» (С. Есенин), «Я вспомнил о тебе, моя могила, отчизна, отдаленная моя…», «Россия тишина. Россия прах. А, может быть, Россия – только страх» (Г. Иванов), «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем» (О. Мандельштам), «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!» (И. Северянин), «Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно – своею» (А. Ахматова) и то же самое у М. Цветаевой, З. Гиппиус и др. Общий образ здесь – могила и смерть. Предвестие, данное А. Блоком в образе плачущей, слабеющей женщины, закономерно воплотилось в ее гибели – прежняя Россия умирала в коллективном сознании тех, кто еще помнил о ней и любил ее, и затем умерла безвозвратно – уже в 30-е гг. этот образ постепенно уходит из эмигрантского литературного творчества, практически исчезая в 40-е.
На этом фоне совсем иной архетип новой Советской России обнаруживается в стихах А. Безыменского, А. Жарова, М. Светлова, Н. Кузнецова, И. Молчанова, Н. Полетаева, И. Садо-фьева, И. Уткина и других детей революции , как называл их А.В. Луначарский. Этот образ полностью соответствует вначале архетипу Героя, а затем и Творца – и в поступках, и во внешнем облике, и в отношении авторов к тому социокультурному состоянию общества, в котором им выпало жить. Их поэзию времен Гражданской войны и первых послевоенных лет так и называли – героико-романтическая. На смену ей в конце 20-х и в 30-е гг. пришла поэзия трудовых будней, но по-прежнему такая же оптимистическая и полная простых символов новой жизни.
Образ России еще иногда присутствует в новой поэзии и все так же ассоциируется с женщиной, поскольку это древний, медленный архетип, от которого невозможно избавиться полностью никогда, но теперь он выглядит совсем по-иному: «Со всех углов на вас глазея, / Вас тужится в силки поймать / уезднейшая мать-Расея, / татарская, блатная мать» (А. Безыменский, 1925 г.) [4].
В 20–30-е гг. медленный длительный образ женщины-жены-Родины-Богородицы в общественном сознании новой элиты был полностью вытеснен быстрыми архетипами, отвечавшими текущему состоянию новой социокультурной системы: в период образования и борьбы за выживание системы – состоянию Героя, как правило, это рабочий, пролетарий, иногда солдат или чекист (во время Гражданской войны), а затем, в годы ее становления (индустриализации и великих строек), – это Творец, он же строитель. Эти формы характерны для последовательности состояний эволюционного развития системы, детерминированно сменяющих друг друга в соответствии со сменой ее социокультурных состояний. Создавая настроения новой элиты, эти архетипы доминируют в обществе, формируя и актуализируя новые внутренние связи и обеспечивая социальное поведение масс, необходимое для эволюции системы в нужном направлении.
При возникновении критической ситуации социокультурной системе для сохранения собственного существования становятся необходимы все ресурсы, которые могут добавить энергетики социальным связям, скрепляющим систему, и в том числе длительные исторические национальные архетипы, чья энергоемкость растет со временем. Использование архетипов этого типа позволяет задействовать в своих целях значительно большее количество людей. Поэтому с началом Великой Отечественной войны, когда встал вопрос о самом существовании не только конкретного социального устройства, но и в целом нации и ее государственности, то есть всей социокультурной системы в ее цивилизационной форме, в мифическом и архетипическом пространстве коллективного сознания народа вновь был востребован длительный глубинный образ женщины, проявившийся в призыве Родина-мать зовет !
Таким образом, мы заключаем, что можно утверждать существование явного детерминизма в последовательности появления и доминирования конкретных архетипов в коллективном сознании общества, связанного с закономерностью последовательности смены социальных ситуаций в ходе эволюции социокультурной системы. Вскрытие коллективного архетипа позволяет судить не только о текущем состоянии группового сознания и отвечающей ему социокультурной системы в целом, но и о наиболее вероятном направлении ее дальнейшей эволюции в точках бифуркации.
Ссылки:
-
1. Юнг К.Г. Архетипы коллективного бессознательного. М., 1994. 297 с.
-
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.. 2005. 560 с.
-
3. Блок А.А. На поле Куликовом // Блок А.А. Стихотворения и поэмы. Минск, 1980.
-
4. Безыменский А. Со всех углов на вас глазея… // 30 дней. 1925. № 4. С. 34–35.