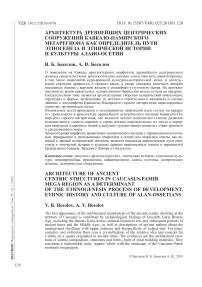Архитектура древнейших центрических сооружений Кавказо-Памирского мегарегиона как определитель пути этногенеза и этнической истории и культуры Алано-Осетин
Автор: Бесолов Владимир Бутусович, Бесолов Аристарх Владимирович
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Строительство
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
О появлении на Кавказе архитектурного морфотипа древнейшего центрического жилища свидетельствуют археологические находки эпохи энеолита, ранней бронзы, в том числе знаменитой куро-аракской культурно-исторической эпохи, и последующих периодов древности и средних веков, а также описания античных авторов подземных жилищ с верхним входом и специфики уступчатого шатра. На протяжении многих веков зарождалась художественно-творческая мысль купола на квадрате. Свидетельством тому являются архитектурные творения центрической композиции, структуры и формы, возведенные из местного строительного материала и составляющие с ландшафтом Кавказско-Памирского горного мегарегиона нерасторжимое единство, органическое целое. Изначальное местозарождение и месторазвитие творческой идеи «купол на квадрате» происходило в архитектуре древнейшего центрического жилища Кавказско-Па-мирского горного мегарегиона, что является четким показателем степени развития созидательного таланта народов и стран, веским определителем их места в иерархии творчески одаренных наций и ведущих художественно развитых стран древнего и средневекового мира. Архитектурный морфотип древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатым перекрытием и светодымовым отверстием в зените над открытым очагом, как весомый и зримый исторический источник, является надежным определителем пути этногенеза и этнической истории и культуры древних ираноязычных племен и народностей Центрального Кавказа, Западного Памира и Гиндукуша.
Этногенез, архитектурогенез, этническая история, этническая культура, индоевропейцы, иранистика, кавказоведение, аланы, осетины, центрическое жилище, центрические сооружения
Короткий адрес: https://sciup.org/14720137
IDR: 14720137 | УДК: 130.2:728.03(479) | DOI: 10.15507/VMU.025.201501.128
Текст научной статьи Архитектура древнейших центрических сооружений Кавказо-Памирского мегарегиона как определитель пути этногенеза и этнической истории и культуры Алано-Осетин
Архитектурный морфотип древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатой структурой перекрытия и отверстием в зените над открытым очагом, размещенным в середине просторной жилой ячейки, а также склепа с пирамидально-ступенчатой формой покрытия и фаллосом в вершине, святилища с пирамидально-ступенчатой рудиментарной объемной массой и силуэтом, сужающейся кверху башни с ровными плоскостями фасадных стен, своим завершением образующей четырехугольный проем – это не только уникальные сооружения центрической композиции, структуры и формы с развитой вертикальной осью и не только показатели высокого уровня развития архитектурно-художественной мысли и строительно-технического мастерства на Центральном Кавказе, но и активная зона высокой степени пассионарного напряжения, высокогорное место интенсивного поглощения космической энергии и излучения земной информации.
Эти действительно уникальные не только в горной Евразии, но и во всем мире творения народного зодчества и традиционные константы локальных, региональных и глобальных этнических процессов, изумительные по своей плановой композиции и пространственнотектонической структуре сооружения максимально способствуют непрерывному движению жизненно важных энергоинформационных потоков между Землей и Космосом. Они являются незаменимым источником и исключительным основополагающим материалом при изучении и конкретизации глобальных этногене- тических процессов в горной Евразии, в частности, процесса образования центрально-кавказского и памиро-гиндукуш-ского ираноязычных арийских этносов с характерным обликом, уникальным языком и традиционной культурой, процесса поэтапного формирования их этнической индивидуальности [33–36].
Весьма важно учесть, что архитектурный морфотип центрического жилища с пирамидально-уступчатой структурой перекрытия и отверстием в зените над открытым очагом является исключительным артефактом, зримым свидетельством исторически закономерного появления, длительного развития и распространения древнейших индоевропейцев на Армянском нагорье, Центральном и Южном Кавказе, в Средней и Центральной Азии и Юго-Восточной Европе. По сути, этот уникальный памятник народного зодчества является убедительным историческим фактом и важным архитектуроведческим источником при исследовании конкретной этногенетической проблемы и, более того, оригинальным жилищем древнейшего этноса, максимально адаптированным к определенному характеру местности, экологически необходимым, мировоззренчески обоснованным, т. е. как бы созревшим в среде самого индоевропейского общества, выросшим из недр Армянского нагорья. Несомненно одно: на протяжении многих веков и тысячелетий происходила кристаллизация творческой идеи купола на квадрате, т. е. зародившейся в глубокой древности художественно-творческой мысли
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
зодчих и мастеров-строителей из индоевропейского этноса, свидетельством тому являются архитектурные творения центрической композиции, структуры и формы, возведенные из местного строительного материала и составляющие с евразийским горным ландшафтом органическое целое [5–6; 11; 30; 41].
Исследуя закономерности формирования и распространения древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатой структурой перекрытия и отверстием в зените над открытым очагом, размещенным в середине просторной жилой ячейки, на методологической основе новых (историко-лингвистической и этнолого-географической) теорий этногенеза индоевропейцев и в контексте этногенетических процессов древних арийцев, алан и осетин, горных таджиков и афганцев и их далеких предков, прослеживается совершенно иной путь их генетической эволюции, этноисторического и этнокультурного развития [9; 29; 43–45].
В рассматриваемом аспекте исследуемой темы немаловажное значение имеют естественно-географические и экологические условия, которые влияют на образ жизни и хозяйственную деятельность конкретных племен и народов, их бытовой уклад, психический склад и социальные отношения с окружающим миром, причем в каждую культурно-историческую эпоху эти природные факторы оказывают детерминирующее воздействие на общество. Разумеется, несмотря на богатейшие природные ресурсы, столь сложная и суровая биосфера Центрального Кавказа и Среднего Предкавказья, Западного Памира и Гиндукуша в определенной степени оказывала неизбежное и решающее влияние на индивидуум и социум, накладывала на их жизнь закономерный отпечаток [14–17].
Именно тогда становились более значимыми не только исторические обстоятельства, экологические условия и естественные факторы, но также этнические реалии, эстетические пред- ставления и культурные показатели этногенетического процесса древнейших индоевропейцев, в том числе ранних армян и древних арийцев, более зримыми направления движения миграционных волн и время появления первых ираноязычных арийцев на Центральном Кавказе и Среднем Предкавказье [18; 26; 32; 37–38; 40; 42], Западном Памире и Гиндукуше [10; 39].
При рассмотрении комплекса вопросов относительно проблем этногенеза древнейшего ираноязычного арийского этноса, раннесредневековых ираноязычных аланов и позднесредневековых ираноязычных осетин, в индоевропеистике и иранистике, прежде всего в аланисти-ке и осетиноведении, все еще продолжается яростная полемика вокруг одной из стержневых проблем о двуприродности ираноязычных обитателей Центрального Кавказа: происхождения этого народа в смысле его генетических корней, родственных связей и его формирования в смысле особенностей той естественно-исторической среды, в которой протекает этногенетический процесс. Такой методологический подход, инерционно существующий более столетия, был введен в мировую иранистику и кавказоведение с легкой руки широко известных ученых, представителей исторических и филологических наук, незыблемый авторитет которых гарантирует неизменность их этногенетических концепций и суждений, явным свидетельством тому является удивительная долговечность устоявшихся взглядов и учений.
Здесь, прежде всего, следует назвать, с одной стороны, представителей исторических наук: историков-кавказоведов, специалистов по древней и средневековой истории, археологии, этнологии, антропологии и других отраслей исторического знания во главе с Е. И. Крупновым (1904–1970), а с другой стороны – представителей филологических наук: лингвистов-индоевропеистов и иранистов, специалистов по центрально-кавказской ономастике, этимологии, компаративистике, диалек- тологии и других отраслей филологического знания во главе с В. И. Абаевым (1900–2001), а промежуточное положение между ними обычно отводится ученым – специалистам по истории древних религий, индоевропейской, арийской и иранской мифологии и нарт-скому эпосу во главе с выдающимся французом Ж. Дюмезилем (1898–1986) [19–21; 40].
Вместе с тем несколько симптоматично, что попытки монголоязычного истолкования некоторых данных из ономастики древнего и средневекового Центрального Кавказа вовсе не убедительны и обречены на фиаско, ибо отличаются фантастическими домыслами и несостоятельными доводами.
В гуманитарных науках все еще продолжают отсутствовать аргументированные исследования, не умозрительно, а более объективно освещающие этническую историю центральнокавказского региона: время появления и территория расселения первых арийцев, их внешний облик и язык, психический склад и бытовой уклад, хозяйственная деятельность, социальное устройство, духовная и материальная культура и, что особенно важно, характер взаимодействия центральнокавказского этно- и социокультурного пространства с окружающим этнически переменным культурным миром.
Ведь крайне важно обратить должное внимание на срединную часть предгорного, горного и высокогорного Большого Кавказа, на издревле обитаемые горы и прилегающие возвышенности и равнины Казбеко-Эльбрусского дву-горья, на обоих склонах которого еще в эпоху поздней бронзы и раннего железа появилась и развивалась, в сущности, единая уникальная центрально-кавказская, или кобано-тлийская, художественная культура (XIV–IV вв. до н. э.), что, с точки зрения физической и этнической географии, является более точным определением. В процессе ее трехвекового угасания постепенно, на той же территории и за такой же период, в ее недрах созревала и так же внезапно появилась новая культура, не менее знаменитая и оригинальная в эпоху раннего и зрелого Средневековья, но уже аланская художественная культура Центрального Кавказа и Среднего Предкавказья (IV–XIV вв. н. э.)* [22–23].
Для всестороннего и полноценного осмысления сущности и значимости становления, расцвета и угасания местных этнокультурных явлений и процессов эпохи древности и периода раннего и зрелого Средневековья нужно аналитически оценить то, что происходило в сопредельных, смежных, близлежащих и отдаленных регионах Евразии. С этой целью крайне важно принять во внимание синхронные историко-культурные факты.
В период формирования и расцвета на Центральном Кавказе и Среднем Предкавказье яркой, неимоверно богатой, достаточно оригинальной по исключительному разнообразию изделий и стилистически однородной коба-но-тлийской художественной культуры, на территории Азиатской части России развивалась не менее блестящая кара-сукско-тагарская культура, на территории Центральной Европы процветала уникальная гальштатская культура, а на территории Переднего Востока, в Западном Иране, не менее прославленная культура луристанской бронзы. В этот же период в Северо-Восточном Кавказе, преимущественно в восточной части Чечни и Дагестане, развивалась каякентско-хорочоевская культура, в Северо-Западном Кавказе, в бассейне Кубани совершенствовалась прикубанская культура, а в Южном Кавказе, на близлежащей территории Абхазии
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
и Западной Грузии, достигла художественной зрелости знаменитая колхидская культура. Нетрудно заметить, что в естественно-географическом ареале и историко-хронологическом контексте знаменитых этнических культур, имеющих некоторые черты сходства и признаки общности, высочайшего уровня художественного развития достигла ко-бано-тлийская материальная и духовная культура, созданная древними, автохтонными ираноязычными племенами Центрального Кавказа.
Важно отметить, что в 301 г. христианство стало официальной государственной идеологией Армении, древнее индоевропейское армяноязычное население имманентно восприняло новую веру, и Армения стала первой христианской страной в мире Евразии. Вскоре к христианству также обратились и кав-казоязычные народы: в 313 г. – Агвания, 337 г. – Грузия, 532/535 г. – Абхазия. К тому же, в 312 г. христианство стало государственной идеологией Византии и вскоре проникло в его провинции на Крымском полуострове и во всем Северном Причерноморье.
Аланское государство, достигшее высокого уровня развития культуры и хозяйства, наряду с древнехристианскими странами Южного Кавказа вышедшее на передовые позиции социальных преобразований, вскоре имманентно дошло до состояния восприятия новой, более прогрессивной идеологии – христианства православного толка. Вхождение в ряды христианских стран в эпоху раннего Средневековья являлось показателем уровня просвещенности этноса и признаком степени культурного развития [7; 25].
Кроме того, в VIII–IX вв. ислам проник к тюркоязычному населению территории Средней Азии, немного позднее – к Волжской Булгарии и Крыма, а в XI–XII вв. – к тюркоязычному населению Азербайджана, вероятно, в IX–XI вв. сменившего прежнюю страну Агванию.
Именно на территории Центрального Кавказа и прилегающей части Сред- него Предкавказья внезапно возникла, достигла расцвета и медленно угасла знаменитая кобано-тлийская материально-художественная культура (XIV– IV вв. до н. э.), древних ираноязычных обитателей обеих склонов срединной части гор Большого Кавказа. Весьма парадоксально, что именно на той же территории и в той же антропологической и лингвистической среде происходило становление (I–III вв. н. э.), а в эпоху раннего Средневековья сформировалось необычайно воинственное аланское общество ираноязычных племен (IV – середина IX в. н. э.), отличавшееся непререкаемой иерархической организацией и моральными устоями семейно-бытового уклада, развитой ремесленной и хозяйственной деятельностью, социальными морально-нравственными приоритетами и традиционным горским этикетом. В период зрелого Средневековья образовалось Аланское государство (середина IX– XI вв. н. э.) с развитым централизованным социальным устройством, интенсивными социально-экономическими и политико-дипломатическими отношениями, с многотысячной превосходно вооруженной кавалерией, отличавшейся бесстрашием и воинственностью. Однако и Аланское государство не избежало феодальных междоусобиц и царских распрей, политической раздробленности, столь характерных для государств эпохи развитого Средневековья, и поэтому распалось на удельные княжества и царства, которые впоследствии вели между собой постоянные войны, а такое неминуемо вело к самоистреблению отдельных личностей и целых отрядов воинственного аланского населения (XI–XIV вв. н. э.). В ставшей уже исторической Алании преемственно развивались и совершенствовались самые уникальные и вместе с тем обладавшие определенной, генетически обусловленной устойчивостью, архитектурные морфотипы древнейших центрических сооружений: жилищ, святилищ, склепов и башен, а также средневековых центрально-купольных храмов* [3].
Таковой была историческая действительность, этническая, антропологическая, лингвистическая и культурная реальность Центрального Кавказа в системе близлежащих и отдаленных стран и историко-культурных регионов Востока и Запада как в эпоху древности, так и в период новой социально-экономической формации, т. е. в эпоху раннего и развитого феодализма. Очевидно, что в эпоху древности ираноязычные создатели и продолжатели кобано-тлийской художественной культуры являлись передовыми, мировоззренчески и творчески высокоразвитыми племенами, знатоками горного дела, металлургии и металлообработки, керамического производства. Вполне отрадно, что кобано-тлийские мастера создали неповторимые по форме, композиции сюжета и декора, эстетике стиля образцы древнего искусства, являющиеся ныне достоянием художественного наследия народов Кавказа и стран Востока.
Столь же очевидно, что в эпоху раннего и зрелого Средневековья ираноязычные аланские племена создали недосягаемую по уровню развития аланскую художественную культуру – яркую и самобытную ветвь архитектуры и строительной техники, монументального, декоративно-прикладного и орнаментального искусства. Аланские творцы внесли весомый вклад в мировую сокровищницу восточно-христианского художественного наследия. Наряду с Абхазией, Грузией, Арменией и исторической Агванией этнос и культура Алании вошли в состав высокоразвитых цивилизованных обществ и державных государств Кавказа, к которым в случае вражеского нашествия или его вероломного вторжения всегда приходили на помощь воинственные и хорошо вооруженные аланские всадники.
Непростительно и досадно то, что до сегодняшнего времени исследователями не выявлен этноним создателя и продолжателя кобано-тлийской материальнохудожественной культуры. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, все же искусствоведческо-компаративный анализ многообразия и эстетической выразительности формы, иконографии и семантики изобразительного сюжета, мотива орнаментального декора, стилистики графических изображений и пластики металлических и керамических изделий позволяет с полной основательностью заявить о том, что произведения местного кобано-тлийского искусства созданы ираноязычными племенами** [4].
Уже тогда, в глубокой древности, по обе стороны Главного Кавказского хребта обитала единая племенная общность кавкасионского типа и иранского языка, которая наряду с арийской мифологией и нартским эпосом, кобано-тлийски-ми художественными произведениями также создавала или же преемственно развивала новые архитектурные морфо-типы центрической композиции, структуры и формы: жилища, святилища, склеповые и башенные сооружения.
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
Традиционное представление об этногенезе и этнической истории алан-осетин, их языке, духовной и художественной культуре обычно сводится к двум основным и, казалось бы, взаимно дополняемым, но абсолютно противоположным в своей основе и взаимоисключающим точкам зрения, введенным в научный обиход гипотезам так называемых научных авторитетов лингвистической иранистики и исторического кавказоведения.
По одной версии, появление на Центральном Кавказе иранского языка, т. е. языка современных осетин, исторических алан и их далеких предков, произошло, вероятно, путем насильственного вытеснения одного языка другим – более могущественным племенным языком, или иначе, под натиском более сильных кочевых ираноязычных киммерийских, скифо-сарматских и сармато-аланских племен Великой степи слабые предки современных осетин отступили в горы, потеснив, в свою очередь, уже обитавшие там другие автохтонные племена. При этом неясно, кем же были по типу и языку эти аборигенные предки, обитавшие на предгорных равнинах и в речных долинах Предкавказья, а также и те автохтонные племена, которые обитали в суровых горах Большого Кавказа.
По другой версии, существовавшие на Центральном Кавказе местные горские племена, т. е. физические предки современных осетин, говорившие на одном из кавказских языков и создавшие кобано-тлийскую материально-художественную и духовную культуру, или иначе, коренные оседлые племена, которые на протяжении веков и тысячелетий преемственно наследуя и сохраняя сущность кавказского этноса и культуры, под давлением верололмно вторгшихся вглубь гор кочевых ираноязычных степняков сменили свой исконно кавказский язык на иранский.
Не секрет, что подобная постановка проблемы о признании преобладания одного из двух компонентов – пришлого, степного иранского или местного, гор- ного кавказского – методологически несостоятельна и по своей сути заведомо ложна. Это бесконечный и мнимый путь поиска истины, ведущий к созданию у двуприродных осетин идентичной двуприродной истории – раздельной истории языка и истории этноса [37; 40; 42].
Однако, анализируя взаимодействие прилегающих друг к другу этно-и социокультурных пространств гор и степи, крайне необходимо проследить как складывалась относительно устойчивая общность этнической территории и контактных зон, общность формирования внешнего облика и психического склада этноса, его материальной и духовной культуры, общность хозяйственной деятельности и социальной жизни на исторических этапах непрерывного и преемственного его развития в качестве равноправного этнического признака наряду с общностью языка в иранском мире, но его особенностью в кавказском окружении и, более того, эпицен-тричной уникальностью и генеративной особенностью исконно арийской культуры, возникшей и эволюционирующей на лоне благодатной природы, весьма сложной и суровой экологической среды, но впоследствии оказавшейся в иноэтническом окружении [Там же].
Постижение архитектурной и строительно-технической сущности древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатой структурой перекрытия и отверстием в зените над открытым очагом, размещенным в середине просторной жилой ячейки, стало исходной материально очевидной основой и культурно-историческим фактом поиска этногенетической истины, предельно адекватной исторически реальной жизни осетин, алан и их далеких древних и древнейших предков.
Следует особо отметить, что архитектурный морфотип центрического жилища был исходной архитектонической основой создания и совершенствования архаических форм дохристианских общественно-родовых мемориальных и культовых сооружений: в мемориаль- ной архитектуре – традиционных склепов-усыпальниц, в сакральной – рудиментарных святилищ. Эти сооружения, донесшие до нас древние, дохристианские архитектурные традиции, имеют, подобно центрическому жилищу, двойственный характер конструкции перекрытия: внутреннее пространство обычно завершается ложно-сомкнутым сводом, а их внешняя форма получает вид пирамидально-ступенчатой кровли на четыре ската, нередко на два.
В то же время особенно важно заметить и понять весьма удивительную, но имеющую огромный семантический смысл, глубокое функциональное обоснование и символическое значение, неопровержимую конструктивно-художественную реальность, а именно: доведенный до совершенства конструктивной логики и художественной правдивости пирамидально-уступчатый деревянный куполоподобный объем древнейшего центрического жилища, т. е. дома для живущих, как ни удивительно, получил несколько иную творческую интерпретацию в склеповых сооружениях, т. е. доме для усопших. Внутренняя деревянно-балочная пирамидальная уступчатость интерьера центрического жилища перевоплотилась в наружную каменно-плиточную пирамидальную ступенчатость экстерьера склепа, при этом внешняя прямоугольно-курганообразная концентрическая земляная форма экстерьера жилища – во внутреннюю сомкнуто-сводчатую поверхность пирамидальной формы завершения интерьера центрического склепа. Иными словами, перекрытие почти квадратного в плане кубического объема интерьера центрического жилища словно вывернуто наизнанку и установлено на несколько вытянутом ввысь кубическом объеме экстерьера центрического скле-пового сооружения.
Именно этот неопровержимый этнокультурный и исторический факт подтолкнул нас к дальнейшим размышлениям и пониманию того, что ясный день в жилище превратился в темную ночь в склепе, а это означает, что солярный символ дома для живущих поменялся на лунарный символ дома для усопших. В контексте изложенного также следует учесть беспрецедентные в мировой архитектуре и строительной технике функционально-конструктивные и эстетические особенности жилища и склепа, имеющие определенный, функционально значимый, но еще не познанный семантический смысл и символическое значение.
Доведенный до совершенства конструктивной логики и идеальной художественной правдивости пирамидальноуступчатый деревянный куполоподобный объем древнейшего центрического жилища, т. е. дома для живущих, над центральным ядром плановой композиции и по вертикальной оси пространственной структуры интерьера завершается светодымовым отверстием. На слегка возвышенном кубическом объеме древнейшего центрического склепа, т. е. дома для усопших, ритмично убывающая по вертикальной оси к вершине, четкая пирамидально-ступенчатая форма экстерьера завершается каменным фаллосом. В поистине уникальных архитектурных творениях коренных горских народностей Центрального Кавказа столь неожиданное сочетание женского и мужского элементов отнюдь не является случайностью, ибо в традиционном зодчестве ничего не создавалось только для красоты, даже орнаментальный декор имел семантическое назначение и символический смысл.
В долгих раздумьях мы, кажется, стали осмысливать важность и функциональную необходимость горизонтально устроенного в зените перекрытия жилища отверстия и вертикально установленного в вершине перекрытия склепа фаллоса. Разумеется, каждый из двух элементов свидетельствует о женском и мужском начале, а поэтому они должны выполнять, и это неоспоримо, в архитектуре уникальных сооружений центрической композиции, структуры и формы, определенные функции, т. е. каждый из них создан с конкретным
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
функционально-смысловым назначением. Пока мы находимся в процессе проникновения в очевидные реалии творческих тайн древних зодчих, выходцев из местных ираноязычных племен, создателей таких архитектурных творений, которые поныне еще не осмыслены в науке и которые по значению являются крайне актуальными для современности. На пути постижения семантической и символической сути функций этих и других, аналогичных по функциональной значимости, сооружений Центрального Кавказа, пока нам удалось одолеть всего лишь первый этап. Смысл выявленного заключается в изысканной архитектонике этих сооружений, закономерном и гармоничном соотношении внутреннего пространства и наружных масс, в особенной, поистине универсальной их функциональности и неимоверной жизненной необходимости. Это вполне очевидно, если додуматься и представить уму непостижимое даже для высокообразованного мастера архитектуры нынешнего времени. Итак, наша концепция о впервые нами же выявленном факте: солнечный свет, необходимый для зачатия, рождения и биологического развития человека в древнейшем центрическом жилище с пирамидальноуступчатой структурой перекрытия и отверстием в зените, сменился на лунный мрак, также необходимый для сохранения духа личности и мумификации его плоти в древнейшем центрическом склепе с пирамидально-ступенчатой формой перекрытия и фаллосом в вершине. Со столь отдаленных культурно-исторических эпох обе эти равные по длительности функции ежесуточно непрерывно продолжаются.
Более удивительны последующие этапы постижения семантической и символической сути характера местонахождения и функционального назначения древнейших сооружений центрической архитектуры – весомых и зримых свидетелей этнических особенностей образа жизни и самосохранения духа, культового ритуала и погребально- поминального обряда коренных ираноязычных племен и горских народностей Центрального Кавказа.
Также отметим, что ни одно башенное сооружение, возведенное из естественного камня, Северной и Южной Осетии, Балкарии и Карачая не имеет пирамидально-ступенчатого перекрытия, аналогичного перекрытиям склеповых сооружений, которыми завершаются вейнахские и хевсурские башни. Это следует принять во внимание как весьма любопытный, но реальный культурно-исторический факт, являющийся важным материально-художественным источником при архитектуроведческой интерпретации и этнической атрибуции памятников народного зодчества древнейших обитателей Большого Кавказа, необходимым весомым аргументом их сравнительной хронологизации и относительной датировки и наиболее веским, абсолютным материально-эстетическим свидетельством определения из-начальности появления столь оригинального конструктивно-художественного элемента в уникальных архитектурных творениях кавказских горцев – склеповых и башенных сооружениях [27–28].
Однако это является темой для специального, самостоятельного архитек-туроведческого исследования, которое, при высоком профессиональном уровне его выполнения, позволит понять и убедиться в том, где конкретно и когда, в какой именно этнической среде зародилась и сформировалась такая, не имеющая аналогов в мировой архитектуре и строительной технике, архитектоническая форма ступенчато-венцеобраз-ного перекрытия и определить место зарождения, функциональное назначение, уровень социально-экономического развития конкретной эпохи и этническую принадлежность идеи творческого воплощения пирамидально-уступчатого и пирамидально-ступенчатого перекрытий [12–13].
Общепризнанные произведения изящных искусств Центрального Кавказа, Западного Памира и Гиндикуша эпохи древности и средних веков отличаются особым, неповторимым художественным образом и стилем, исключительной эстетической выразительностью; в них отображены гармония человеческого общества и природной среды, повседневный жизненный уклад и социальные приоритеты в строгих параметрах биогеоэкологического равновесия и, наконец, в них запечатлены суровый психический склад этноса-созидателя, специфика его мифологического, конфессионального и пространственно-тектонического мышления, художественнотворческого воображения и эстетического выражения.
Еще в 1920-х гг. было опубликовано обоснованное предположение о том, что такое поразительное сходство в центрическом жилище с пирамидально-уступчатым перекрытием и светодымовым отверстием в зените над открытым очагом несомненно указывает «…на одну общую древнюю культуру, выработавшую когда-то этот потолок» и одновременно обращено внимание на необходимость сравнительного изучения традиционного жилища Кавказа, Памира и Гиндукуша. Эта публикация свидетельствует о древнейшем этногенетическом единстве и исторической общности современных обитателей Кавказа, имеющих индоевропейские корни, и ираноязычных племен и народов Средней Азии, потому что автору удалось выявить «…наличие характерных признаков переднеазиатской расы среди таджиков верхнего течения Аму-Дарьи, сближающих их с населением Кавказа» и отметить «…наличие общих черт в духовной и материальной культуре» [2].
Задолго до введения в научный обиход ныне знаменитой «теории Гам-крелидзе-Иванова» о прародине индоевропейских племен на территории Армянского нагорья и прилегающей части в Передней Азии и возможных направлениях движения миграционных волн была предсказана причина появления в Памиро-Гиндукушском двугорье центрического жилища с пирамидально- уступчатым перекрытием и светодымовым отверстием в зените над открытым очагом. Это предположение через полвека получило исчерпывающее научное истолкование, смысл которого заключается в том, что после распада праиндоев-ропейского единства вместе с миграционными волнами архитектурный морфо-тип древнейшего центрического жилища был занесен индоевропейцами из их прародины как на запад, так и на север и восток Альпийско-Гималайского горного пояса Евразии, а намного позже, через территорию Средней Азии и Казахстана, в значительно упрощенном виде, в Восточную Европу и далее [9; 29].
Анализ плановой композиции, пространственной структуры и архитектоники древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатым перекрытием и светодымовым отверстием над открытым очагом, размещенным в середине просторной жилой ячейки, с целью выявления специфики и обстоятельств происхождения, процесса формирования и диапазона их распространения как в пространстве, так и во времени и, что весьма важно, осуществлять все это в контексте лингвистической реконструкции прародины индоевропейцев и направлений миграционных волн носителей индоевропейских диалектов с первоначальной территории расселения на Армянском нагорье и прилегающей части в Передней Азии в исторические места их обитания в Евразии, предоставляет возможность установить следующее: наличие всех разновидностей архитектурного морфотипа древнейшего центрического жилища, включая совершенно уникальные пространственно-тектонические структуры и формы, дают основание полагать, что территория Южного Кавказа, к югу от Малого Кавказа, включая восточную часть Малой Азии и крайний северо-запад современного Ирана, является не только изначальным ядром формирования индоевропейского этноса и языка, или, иначе, их прародиной, но и основным и единственным центром зарожде-
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
ния и закономерного развития удивительно жизнестойкого архитектурного морфотипа древнейшего центрического жилища с пирамидально-уступчатым перекрытием и светодымовым отверстием над открытым очагом, размещенным в середине просторной жилой ячейки. Архитектурный морфотип древнейшего центрического жилища непрерывно совершенствовался на более обширной территории Центрального и Южного Кавказа (преимущественно в исторической Армении, древней Иберии, или Восточной Грузии, исторической Агвании и Алании), Западного Памира и Гиндукуша на протяжении 6–8 тыс. лет и предстал в высшей степени художественного воплощения как эстетически выразительный и предельно архитектонический организм, как каноническое творение мировой архитектуры и строительной техники.
Уцелевшие разновидности архитектурного морфотипа центрического жилища сегодня являются символом былого могущества и интеллектуального величия древнейших индоевропейцев, ярким показателем вершинных достижений индоевропейской созидательной силы и мощным жизнеутверждающим началом их прямых потомков и опосредованных последователей на Южном и Центральном Кавказе, на востоке – в Иране и Афганистане, Средней и Центральной Азии, на западе – в Малой Азии, Балканском полуострове и прилегающих островах, т. е. объединяемых единством архитектурогенеза восточных и западных провинций центрического домостроительства.
Таким образом, аксиоматично положение о том, что каждый этнос оставляет свой, только ему присущий след на Земле, который в той или иной степени отражен в археологических наслоениях и памятниках древней письменности, в его языке и физическом облике, хозяйственно-бытовой деятельности, воплощен в духовных и материально-художественных творениях, в том числе в памятниках народного и оборонного зодчества, монументальной мемориальной и культовой архитектуры, т. е. в материализованных и зримых свидетелях минувших эпох и ушедших поколений, являющихся весомым и реальным показателем развития интеллектуального уровня, пространственного мышления и эстетического воображения, созидательного потенциала конкретного этноса.
Полноценная и обстоятельная архи-тектуроведческая интерпретация, атрибуция, датировка этнического культурного достояния, прежде всего архитектурного наследия, и его регионализация способствуют воссозданию древнейшей, древней и средневековой истории, идеологии и культуры народа – создателя и продолжателя устойчивых архитектурных традиций, определению его этногенеза и этнической истории, этнической индивидуальности и самостоятельности, а также локализации исторической прародины и выявлению направленности миграционных волн того или иного этноса, а также этнической общности.
В этом аспекте Кавказ представляет собой удивительно сложный и предельно органичный естественно-географический и этнокультурный регион биосферы Земли, является чрезвычайно важной узловой субстанцией магистрального пути мирового исторического процесса. Во все времена природное лоно Кавказа благоприятствовало этно-, расо- и лингвогенезу, этногенетическому развитию и социальному прогрессу, духовному преображению и процветанию многих племен и народов, в частности тем, которые сегодня являются местным населением. В научном мире известно, что на Кавказе находятся центры и очаги образования антропологических типов и человеческих рас, глот-тогенеза, лингвогенеза, этногенеза, возникновения земледелия и доместикации растений, происхождения скотоводства и доместикации животных, становления горного дела и металлургии, зарождения декоративно-прикладного искусства (оригинальной металлопластики, кера- мики) и орнаментики, утверждения христианской религии как государственной идеологии. Более того, Кавказ также является обособленным центром архитек-турогенеза ряда уникальных архитектурных морфотипов древнейших центрических сооружений и раннесредневековых центрально-купольных и зальносводчатых усыпальниц и храмов, мавзолеев и мечетей.
Высокий интеллект коренных жителей Кавказа, наличие природных строительных ресурсов и благоприятный экологический фон явились основой зарождения, процесса формирования и географического распространения архитектурных морфотипов центрических зданий и сооружений жилого, оборонного, погребального и сакрального назначения, начиная от реликтового центрического жилища с пирамидально-уступчатым перекрытием и отверстием в зените над открытым очагом и заканчивая архитектурными морфотипами центрально-купольных храмов, не имеющих аналогов в истории мировой архитектуры эпохи раннего и зрелого Средневековья.
В связи с этим проблематике генезиса и эволюции идеи купола на квадрате в традиционном, народном зодчестве и в монументальной центрально-купольной архитектуре отдельных народов, конкретных стран и целых историко-культурных регионов Евразии: передовой державы – сасанидского Ирана, исторической Византии и стран христианского Востока (Малой Азии, Верхней Месопотамии, Сирии и Палестины, Армении, Агвании, Грузии, Абхазии, Алании, Крыма, Древней Руси, Украины и Белоруссии, Греции, Македонии, Сербии и Черногории, Болгарии, Валахии и Молдовы, и др.), арабского мира и мусульманского Востока (Ирана, Афганистана, Таджикистана, Сельджукии, Турции, Азербайджана, Средней Азии и Южного Казахстана, Среднего Поволжья и Крыма, Предкавказья и Дагестана и др.), создавших поистине уникальные, подлинно классические памятники гражданской, фортификационной, мемори- альной и культовой архитектуры, предстоит уделить должное, по достоинству адекватное древнейшему, древнему и средневековому архитектурному наследию, профессиональное внимание. Только комплексное исследование памятников архитектуры на выше очерченной территории Евразии, их тщательное натурное обследование и глубокий ар-хитектуроведческий анализ на основе интернационального содружества ученых и на уровне европейской научной методологии предоставит возможность коллективно подготовить обстоятельное многотомное академическое издание и тем самым внести подобающий международный научный вклад в сокровищницу всеобщей истории архитектуры и строительной техники.
Поставив перед собой научную цель и избрав особый методологический принцип осмысления функциональной сущности плановой композиции, семантики пространственно-тектонической структуры и символики художественного образа всех разновидностей архитектурного морфотипа древнейшего центрического жилища и рассматривая его как надежный архитектуроведче-ский источник универсальной значимости, способствующий постижению многоаспектной проблемы о локализации прародины индоевропейцев, характере расхождения миграционных волн и исторических этапах их расселения изначально в горных регионах, а затем и на необъятных просторах Евразии, мы вносим свой вклад в научное утверждение новаторской «теории Гамкрелид-зе-Иванова» о реконструкции индоевропейского праязыка и протокультуры, теории, ставшей подлинно эпохальной в развитии гуманитарных наук и открывшей новое направление в современном архитектуроведении для постижения этнических особенностей и имманентных закономерностей формирования и исторического развития народного зодчества, монументальной центрально-купольной архитектуры стран христианского и мусульманского Востока.
Серия « Естественные и технические науки »
ВЕСТНИК Мордовского университета | Том 25 | № 1 | 2015
Список литературы Архитектура древнейших центрических сооружений Кавказо-Памирского мегарегиона как определитель пути этногенеза и этнической истории и культуры Алано-Осетин
- Абаев, В. И. Заключительное слово/В. И. Абаев//Происхождение осетинского народа: материалы научной сессии, посвященной проблеме этногенеза осетин (6-8 октября 1966 г., г. Владикавказ. Республика Северная Осетия-Алания). -Владикавказ, 1967.
- Андреев, М. С. Таджики долины Хуф/М. С. Андреев. -Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1958. Вып. 2.
- Бесолов, В. Б. Монументальная архитектура Алании в лоне восточнохристианского художественного койне/В. Б. Бесолов//Материалы Первой Международной научной конференции по осети-новедению (12-14 октября 1991 г., г. Владикавказа). -Владикавказ, 1991. -С. 16-18.
- Бесолов, В. Б. Древнее искусство Центрального Кавказа: ведущие тенденции и характерные черты/В. Б. Бесолов//Материалы Первой Международной научной конференции по осетиноведению (12-14 октября 1991 г., г. Владикавказ). -Владикавказ, 1991. -С. 14-16.
- Бесолов, В. Б. Строительный материал и конструктивный принцип как основа пространственно-тектонической структуры и архитектурной формы древнейшего центрического жилища Переднего Востока/В. Б. Бесолов//Актуальные проблемы бетона и железобетона: (Материалы и конструкции, расчет и проектирование): сборник статей и тезисов докладов. -Кисловодск, 2010. -С. 6-20.
- Бесолов, В. Б. Архитектоническая сущность идеи купол на квадрате как кристаллизация созидательной мысли древних индоевропейских зодчих и строителей центрических жилищ/В. Б. Бесолов//Актуальные проблемы бетона и железобетона: (Материалы и конструкции, расчет и проектирование): сборник статей и тезисов докладов. -Кисловодск, 2010. -С. 88-99.
- Бесолов, В. Б. Восприятие христианства аланским обществом и возведение храмов аланским государством Центрального Кавказа в эпоху раннего и зрелого средневековья/В. Б. Бесолов//Конфессии на Кавказе: материалы 1-й Международной научной конференции (2-5 марта 2014 г., г. Лондон. Великобритания). -Баку, 2014.
- Ванеев, З. Н. Средневековая Алания/З. Н. Ванеев. -Цхинвал, 1959.
- Гамкрелидзе, Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типо-логический анализ праязыка и протокультуры: в 2 кн./Т. В. Гамкрелидзе. -Тбилиси: Изд-во ТбГУ, 1984. -С. 956-957.
- Герасимова, М. М. К вопросу о среднеазиатско-северокавказских этнических связях в сарматское время/М. М. Герасимова, Л. Т. Яблонский//Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: материалы Международной научной конференции. -Москва, 1984.
- Гиршман, Р. М. Происхождение «чахартака»/Р. М. Гиршман//История и археология Средней Азии. -Ашхабад, 1978. -С. 37-40.
- Гольдштейн, А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии/А. Ф. Гольдштейн. -Москва, 1975. -157 с.
- Гольдштейн, А. Ф. Башни в горах/А. Ф. Гольдштейн. -Москва, 1977. -334 с.
- Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра геогр. наук/Л. Н. Гумилев. -Ленинград, 1973.
- Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера земли: в 3 т./Л. Н. Гумилев. -Москва: ВИНИТИ, 1979.
- Гумилев, Л. Н. География этноса в исторический период/Л. Н. Гумилев. -Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1989.
- Гумилев, Л. Н. Этносфера: История людей и история природы/Л. Н. Гумилев. -Москва: Экопрос, 1993.
- Джуртубаев, М. Ч. Происхождение карачаево-балкарского и осетинского народов/М. Ч. Джуртубаев. -Нальчик, 2010.
- Дюмезиль, Ж. Осетинский эпос и мифология/Ж. Дюмезиль. -Москва, 1976.
- Дюмезиль, Ж. Верховные боги индоевропейцев/Ж. Дюмезиль. -Москва, 1986.
- Дюмезиль, Ж. Скифы и нарты/Ж. Дюмезиль. -Москва, 1990.
- Зураева, А. П. Северные иранцы Восточной Европы и Северного Кавказа/А. П. Зураева. -Нью-Йорк, 1966. -Т. 1.
- Крупнов, Е. И. Древняя история Северного Кавказа/Е. И. Крупнов. -Москва, 1960.
- Крупнов, Е. И. Заключительное слово/Е. И. Крупнов//Происхождение осетинского народа: материалы научной сессии, посвященной проблеме этногенеза осетин (6-8 октября 1966 г., г. Владикавказ. Республика Северная Осетия-Алания). -Владикавказ, 1967.
- Кузнецов, В. А. Христианство на Северном Кавказе до XV века/В. А. Кузнецов. -Владикавказ, 2002.
- Лайпанов, К. Т. Этногенетические взаимосвязи карачаево-балкарцев с другими народами/К. Т. Лайпанов. -Черкесск, 2000.
- Лежава Г. И. Народная башенная архитектура/Г. И. Лежава М. И. Джандиери. -Москва, 1976. -137 с.
- Лежава, Г. И. Архитектура горных районов Грузии: Хевсуретия. Южная Осетия. Горная Рача и Нижняя Сванетия/Г. И. Лежава. -Москва, 1940. -110 с.
- Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: тезисы докладов. -Москва, 1984. -Ч. 1-6.
- Маилов, С. А. К вопросу о значении идеи «купола на квадрате» в архитектуре/С. А. Маилов//Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен: тезисы докладов III Всесоюзной научной конференции. -Москва, 1979. -С. 50-52.
- Марр, Н. Я. Ossetica -Japhetica/Н. Я. Марр//Известия РАН. -1918. -Т. 12. -С. 2070.
- Мизиев, И. М. Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа/И. М. Мизиев. -Нальчик, 1986.
- Народы Кавказа: в 2 т. Т. 1: Народы Северного Кавказа. -Москва, 1960.
- Народы Кавказа: в 2 т. Т. 2: Народы Южного Кавказа. -Москва, 1962.
- Народы Средней Азии и Казахстана: в 2 т. -Москва, 1961-1963.
- Народы Кавказа. -Москва, 1996. -Вып. 1. -(Сер. «Библиотека российского этнографа»).
- О происхождении балкарцев и карачаевцев: материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов (22-26 июня 1959 г., г. Нальчик. Кабардино-Балкарская АССР). -Нальчик, 1960.
- Проблемы происхождения нахских народов: материалы Всесоюзной научной конференции. -Шатой, 1991.
- Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана: тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (20-23 мая 1988 г., г. Москва. Россия). -Москва, 1988.
- Происхождение осетинского народа: материалы научной сессии, посвященной проблеме этногенеза осетин (6-8 октября 1966 г., г. Владикавказ. Республика Северная Осетия-Алания). -Владикавказ, 1967. -335 с.
- Фаэнзен, Х. К. вопросу о зарождении архитектуры церквей с крестообразным основанием и центральным куполом/Х. Фаэнзен//Материалы II Международного симпозиума по армянскому искусству. -Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. -18 с.
- Этногенез и этническая история осетин: материалы Международного научного конгресса (21-22 мая 2013 г., г. Владикавказ. Республика Северная Осетия-Алания). -Владикавказ, 2013. -343 с.
- Hopper, P. J. Glottalized and murmured occlusives in Indo-European/P. J. Hopper//Glossa. An International Jurnal of Linguistics. -1973. -Vol. 7. -№ 2.
- Mallory, J. P. In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth/J. P. Mallory. -London: Thames and Hudson, 1989.
- Renfrew, C. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origin/Renfrew, C. -London: Pimlico, 1987.