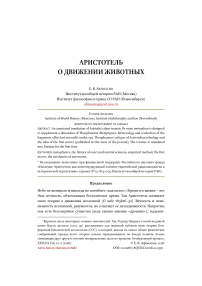Аристотель о движении животных
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Перевод трактата Аристотеля «О движении животных» (De motu animalium) призван дополнить обсуждение Метафизики, Метеорологии и подборки фрагментов из несохранившихся естественнонаучных сочинений Теофраста (см. выше в этом выпуске журнала). В особенности это касается его критики Аристотелевской телеологии и его понятия первого двигателя. Трактат переводится на русский язык впервые.
Метафизика, история точных и естественных наук, эмпирический метод, первый двигатель, механика движения
Короткий адрес: https://sciup.org/147103485
IDR: 147103485
Текст научной статьи Аристотель о движении животных
-
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе» (проект № 15-18-30005, Институт всеобщей истории РАН).
Предисловие
Небо не возникло и никогда не погибнет «как целое». Время его жизни – это Эон, вечность, объемлющая бесконечное время. Так Аристотель начинает свою теорию о движении вселенной (О небе 283b26–32). Вечность и неизменность вселенной, разумеется, не означает ее неподвижность. Напротив, она есть бессмертное существо (ведь таково мнение «древних»),1 наделен- ное движением особого рода – безграничным и безостановочным движением, ограничивающим и останавливающим все остальные движения. Именно это движение есть первопричина всех остальных движений и изменений в мире (284а2–12).
Но какова причина этого первичного движения? Может, его обеспечивает Атлант, крепко стоящий на земле и подпирающий Небо? Или же к вечному движению его принуждает душа (284а20 и 28)? Подобные гипотезы кажутся Стагириту наивными: конечно же Небо одушевлено, однако причину своего движения оно содержит в себе самом (285а27).
Насколько вечная во времени вселенная однородна в пространственном смысле (изотропна)? Есть ли у нее право и лево, верх и низ, перед и зад? Ясно, что, например, растения растут вверх, спереди расположены органы чувственного восприятия у животных, тогда как для большинства неодушевленных предметов ориентация в пространстве не имеет значения, хотя сила тяготения заставляет все их падать вниз и т. д. Аристотелю кажется естественным предположить, что и шарообразная вселенная все же имеет выделенные направления:
…если Небу присущи право и лево, то следует полагать, что ему тем более должны быть присущи начала, первичные по отношению к этим. Начала эти рассмотрены в трактате о движении животных , так как составляют неотъемлемое свойство их природы… (184b12–14, пер. А. В. Лебедева).
И действительно, эта проблема, среди прочих, рассматривается в двух кратких сочинениях Аристотеля, посвященных способам передвижения живых существ.
Первое из них, О движении животных, выглядит как законченное произведение, однако, в отличие от больших сочинений Аристотеля, очень конспективно. Очевидно, что перед нами краткий курс лекций, в котором формулируются проблемы, а затем лишь намечается их решение. В этом отношении трактат очень похож на Метафизику Теофраста (публикуемую ранее в этом выпуске журнала).
В заключительной фразе трактата Аристотель сам помещает его в контекст собственных естественнонаучных исследований. Он говорит, что уже ранее имел возможность подробно рассмотреть причины, по которым животные имеют именно такие части и для чего их предназначила «природа» (О частях животных), вопросы, связанные с душой (О душе), чувственным восприятием (Об ощущении и ощущаемом), сном (О сне и бодрствовании), памятью (О памяти и припоминании) и, наконец, проблемами движения животных в целом (этот трактат). Теперь, заключает он, можно перейти к эмбриологии (О рождении животных). Из трактатов так называемых «Малых естественнонаучных произведений» здесь не упоминаются лишь сочинения, посвященные сновидениям, изучению продолжительности жизни у различных животных и дыханию.2 Примечательно, что еще одному краткому сочинению Аристотеля, трактату, посвященному описанию разного вида передвижений животных (περὶ πορείας ζῴων, De incessu animalium), в этой схеме места не нашлось. В нем речь идет о различии конечностей у разных животных, повторяется теория о механизме передвижения животных (известная нам из трактата О движении животных), сравниваются различные виды животных друг с другом и животные с прямоходящим человеком и т. д. Этот текст, являющийся логичным дополнением как к публикуемому краткому сочинению Аристотеля, так и к его обширному трактату О частях животных, я представлю в следующем выпуске журнала.
Поиск причин всякого природного явления Аристотель склонен увязывать с целью того или иного действия, явления или события. Как мы видели ранее, его ученик Теофраст относится к этой идее настороженно, полагая, что в ряде случаев такой подход приводит к ошибкам.3 Впрочем, Аристотель это также понимает и стремится к максимально точному описанию явления, даже если цель его не вполне ясна. Трактат О частях животных почти полностью посвящен изучению назначения частей животных с физиологической и телеологической точек зрения. Подобный методологический подход стал доминирующим в античной биологии и медицине, и спустя пять столетий Гален по-прежнему пишет сочинение О назначении частей человеческого тела. Базовая «телеологическая» идея Аристотеля сводится к тому, что Бергсон назвал «внутренним целеполаганием»: каждый организм «сложен» таким образом, чтобы все его части как можно точнее подходили друг к другу и как можно лучше служили целому. Он устроен подобно совершенному полису, управляемому идеальными законами (εὐνοµουµένην). Ему не нужен правитель, который бы постоянно вмешивался по своему произволу в жизнь целого и его ча- стей. Просто каждая часть по привычке (διὰ τὸ ἔθος) выполняет свое предназначение (О движении животных 703а25 сл.). 4
Действуя с определенной целью организм неизбежно совершает «движения» (в обобщенном смысле слова) и подвергает себя различным изменениям. Одновременно, как и любой природный объект, он подвержен воздействию окружающей его среды. Всякое движение, настаивает Аристотель, должно быть инициировано двигателем,5 и, кроме того, чтобы одно двинулось, нечто другое должно оставаться (по отношению к нему) неподвижным, то есть выступить в качестве опоры для толчка. Поэтому, например, брошенный камень должен «опираться» о воздух. 6 Животное также не сможет сдвинуться с места, будучи лишенным возможности опереться о какую-либо плотную среду, например, землю, воду или воздух. Кроме того, в нем самом должна найтись некая «точка покоя», которая могла бы выступить в качестве внутренней опоры для движения как всего тела, так и его частей.
Рассмотрев механические аспекты движения Аристотель переходит к физиологическим и психологическим. И хотя с точки зрения античного физика все тела стремятся к своим «естественным» местам и совершают «естественные» для них движения (например, легкое естественным образом стремится вверх и т. д.), именно живые организмы подвижны по своей природе. Движения эти могут быть произвольными (ἑκουσίους), невольными (ἀκουσίους) или непроизвольными (οὐχ ἑκουσίους). Последние два вида движений обусловлены физиологией, и Аристотель кратко касается их в последнем разделе трактата. Что же касается первого, произвольного движения, то его источник, согласно Аристотелю, носит психо-физиологический характер. Изменения в нашем организме (например, недостаток влаги) приводят к тому, что наши внутренние органы подают нам сигнал и мы начинаем испытывать некую потребность (например, жажду). Привлекая воображение и когнитивные способности мы тут же действуем для того, чтобы удовлетворить эту потребность. И наоборот, желая какой-либо предмет или стремясь его избежать, мы привлекаем наше воображение или разумение. Как следствие, наш организм отвечает физическими изменениями, и мы готовы к тому, чтобы совершить движение: «Аффекты подобающим образом подготавливают органические части, стремление подготавливает аффекты, а воображение – стремление (ὄρεξιν). Воображение, в свою очередь, основано либо на мышлении, либо на чувственном восприятии. Одновременность и быстрота достигается природной согласованностью действующего и претерпевающего начал» (702а20–21).
Итак, причина движения найдена – это стремление, «середина, движущее и само движимое», воплощенное в определенном органе, которым Аристотель считает сердце. Осталось найти источник движения, ту силу (ἰσχύν) которая бы его обеспечивала. Таковой оказывается некий врожденный дух (πνεῦµα σύµφυτον), который «выполняет ту же роль в душевном начале, как точка в сочленении, движимая и движущая по отношению к неподвижному. А так как начало у одних животных находится в сердце, а у других в том, что аналогично сердцу, то ясно, что жизненный дух также располагается в нем» (703а12–14).
На русский язык трактат О движении животных переводится впервые в контексте международного проекта, посвященного изучению наследия Аристотеля и аристотелевской традиции и приуроченного к 2400-летию со дня рождения великого Стагирита (Петрова 2016).
Аристотель.
О движении животных
698а I. В другом сочинении 7 мы уже подробно исследовали движения различных родов животных, отличия между этими движениями, а также причины, обуславливающие их индивидуальные особенности (ведь некоторые животные летают, некоторые плавают, некоторые
-
5 ходят, а некоторые передвигаются различными другими способами). Теперь нам предстоит рассмотреть общую причину всякого движения животных.
Обсуждая, существует ли вечное движение и если да, то каково оно,8 мы уже выяснили, что началом других движений является то, 10 что движет себя само, и что его начало неподвижно, и что первый двигатель необходимо должен быть неподвижным. И постичь это нам надлежит не только в качестве понятия (τῷ λόγῳ), но и через его индивидуальные проявления в области чувственно воспринимаемого: ведь именно таким образом мы разыскиваем общие понятия (τοὺς καθόλου ζητοῦµεν λόγους) и на этом основании полагаем, что они 15 должны между собой согласовываться (ἐφαρµόττειν). Очевидно, что в чувственно воспринимаемом мире ничто не сможет двинуться, если что-нибудь другое не останется в состоянии покоя, и прежде всего это верно в отношении нашего предмета, касающегося движения животных. Если животное двинуло одним членом, то другой должен оставаться в покое; для этого у них есть сочленения, которые живот-20 ные используют в качестве центра, и весь член с сочленением – один и два, прямой и согнутый, изменяющийся в возможности и в действительности (δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ) благодаря этому сочленению. Когда сочленение изгибается и движется, одна точка сочленения движется, а другая остается неподвижной, подобно тому, как если бы точки Α и ∆, лежащие на диаметре [в окружности с центром в А], 25 находились в покое, тогда как точка Β двинулась бы и сформировала радиус ΑΓ. Правда здесь [в геометрической фигуре] центр остается совершенно неподвижным, так как движение на этой схеме представляет собой, как говорится, лишь видимость, и в математическом объекте ничего не движется, тогда как центры сочленений, напротив, 698b потенциально и актуально, то вместе, то раздельно. И все же, начало (ἡ ἀρχή) движения как таковое всегда остается неподвижным по отношению к движущейся нижней части конечности. Так, локоть остается неподвижным, когда движется предплечье, а плечо – когда движется вся рука; колено остается неподвижным, когда движется бедро, 5 а бедро – когда вся нога. Следовательно, ясно, что всякое животное должно иметь в себе точку покоя – начало движения для того, что движется, нечто такое, что могло бы служить опорой для движения как всего тела, так и его частей.
-
II. Однако эта внутренняя точка покоя (ἡ ἐν αὐτῷ ἠρεµία) не будет действенной, если снаружи не найдется нечто абсолютно покоящее-10 ся и неподвижное. Здесь следует остановиться и рассмотреть только что сказанное, так как относящиеся к нему наблюдения касаются не только животных; они могут быть также приложены к движению и круговращению (φοράν) всего мира. В животном должно быть нечто неподвижное для того, чтобы оно могло двигаться; тем более, за его пределами должно найтись нечто неподвижное, опираясь на которое 15 движущееся могло бы двигаться. Ведь если нечто все время уступает (ὑποδώσει ἀεί), как, например, когда черепаха ползет по грязи или человек по песку, продвижение становится невозможным, и хода вперед не будет, если почва под ногами не будет стабильной. Так же полет и плавание были бы невозможны, если бы воздух и море не оказывали сопротивление (ἀντερείδοι). Оказывающее сопротивление необходимо должно отличаться от движущегося, одно полностью от другого, так чтобы неподвижное не было частью движущегося. Иначе 20 оно не сможет двигаться. Об этом свидетельствует следующая апория. Почему человек с легкостью передвигает лодку, если толкает снаружи шестом, в качестве опоры используя мачту (ὠθῇ τῷ κοντῷ τὸν ἱστὸν) или другую часть лодки, а если попытается проделать то же самое, находясь в лодке, то у него ничего не выйдет? Не получится ни-25 чего даже у самого Тития или Борея, если, конечно, последний будет дуть, сам находясь в лодке, как это изображают живописцы.9 Ведь по
их представлению дыхание (πνεῦµα) выходит из него самого. Не важ-699a но, дует ли он слабо или же настолько сильно, что порождает сильнейший ветер, и то, что бросает или толкает, будет дыханием или чем-то еще, во-первых, необходимо, чтобы он опирался на один из своих членов, неподвижный и позволяющий толкать, и, во-вторых, 5 чтобы этот член, сам по себе или в качестве части чего-то еще, нашел опору в чем-то внешнем по отношению к нему. Именно поэтому человек, находящийся в лодке, не сможет ее сдвинуть, опираясь лишь на нее, так как то, что он пытается сдвинуть, само должно оставаться неподвижным. Ведь в данном случае движимое и опора – это одно и 10 то же. Если же он будет толкать или тянуть снаружи, то сдвинет ее.
И это потому, что земля – это не часть лодки.
-
III. Возникает следующая апория: если нечто движет все небо, то этот двигатель сам должен оставаться неподвижным, не быть частью неба и не находиться в самом небе. Ведь если он движет себя или 15 приводит в движение небо, то для того, что обеспечить движение, он должен опираться на нечто неподвижное; и это нечто не может быть частью того, что становится причиной движения. Если же двигатель сначала неподвижен (εἴτ' εὐθὺς ἀκίνητόν ἐστι τὸ κινοῦν), то по той же причине он не может быть частью движимого. В этом, по крайней мере, отношении правы те, которые говорят, что когда сфера совершает круговое движение, ни одна часть ее не остается неподвижной. Ведь либо она вся должна оставаться неподвижной, либо утратит не-20 прерывность (συνεχὲς) и разорвется на части. Однако в том, что полюса обладают некой мощью (δύναµιν), они не вполне правы, так как эти полюса не обладают протяженностью и представляют собой лишь края и точки (ἔσχατα καὶ στιγµάς). Ведь ничто подобное не обладает сущностью, и, кроме того, одно движение не может происходить 25 от того, что двойственно. Полюсов же, по их представлению, два. 10 Из обзора этих апорий мы можем заключить, что существует нечто, относящееся к природе в целом так же, как земля относится к животным и тому, что движется при их посредстве.
Мифологи, представляющие себе Атланта опирающимся ногами о землю, заложили в историю разумное основание: ведь он стал как бы
30 диаметром (διάµετρον),11 вращающей небо вокруг полюсов. Это вполне логично, так как земля остается неподвижной. Однако из этого утверждения с необходимостью следует, что земля не является частью мира. Кроме того, сила (ἰσχὺν), с которой воздействует движущее, должна быть равна той силе, которой обладает покоящееся. Ведь имеется определенное количество силы и мощи (τι πλῆθος ἰσχύος καὶ δυνάµεως), благодаря которым покоится то, что находится в состоя-
35 нии покоя; то же самое верно и в отношении движения того, что движет. Необходимые пропорции соблюдаются в отношении состояний покоя так же, как и в случае противоположных движений. Лишь тогда равные силы перестают испытывать взаимное воздействие 699b (ἀπαθεῖς), так как избыток (ὑπεροχήν) преодолевается. Поэтому Атлант или иная сила, движущая землю изнутри, не должна толкать (ἀντερείδειν) слишком сильно, чтобы не нарушить стабильное положение земли. Иначе земля переместится из центра и утратит свое
5 естественное положение. Ведь толкающий толкает, а толкаемое отталкивается, причем с равной силой.12 Он порождает движение в том, что прежде покоилось, и сила, с которой он воздействует, скорее больше, нежели меньше или равна той, что присуща неподвижному (τῆς ἠρεµίας). Она больше и той силы, которой обладает движимое, но не по-
10 рождающее движение. Поэтому необходимо, чтобы мощь (τὴν δύναµιν) земли в неподвижном состоянии была настолько же большой, как и та, которой обладает все небо и то, что приводит его в движение. Если же это окажется невозможным, то и движение неба какой-либо силой, находящейся в нем самом, также станет невозможно.
-
IV. Апория возникает и в связи с движением отдельных частей неба, и ее уместно будет рассмотреть здесь, так как она связана с тем, что только что было сказано. Если бы кому-то удалось преодолеть неподвижность земли мощью движения (τῇ δυνάµει τῆς κινήσεως τὴν
-
15 τῆς γῆς ἠρεµίαν), то он сместил бы ее относительно центра.13 Ясно, что сила (ἰσχὺς), порождаемая этой мощью (δύναµις), не будет беспре-
- дельной (ἄπειρος), так как земля не беспредельна, равно как и ее вес (βάρος). Вообще говоря, слово «невозможное» (τὸ ἀδύνατον) употребляется в разных смыслах (в высказываниях «невозможно увидеть 20 звук» и «невозможно увидеть людей на луне» смысл этого слова различается; ведь в первом случае звук неизбежно (ἐξ ἀνάγκης) невидим, а во втором они по свой природе видимы, но недоступны для нашего зрительного восприятия14). Так вот в отношении неба считается, что оно неизбежно (ἐξ ἀνάγκης) неуничтожимо и нерушимо (ἀδιάλυτον), однако из только что сказанного следует, что это отнюдь не неизбежно. Ведь природа и возможность (πέφυκε γὰρ καὶ ἐνδέχεται) допускают существование такого движения, которое окажется сильнее как той силы, которая удерживает землю в неподвижном состоянии, так 25 и той силы, которая движет огонь и верхнюю сущность (τὸ πῦρ καὶ τὸ
ἄνω σῶµα). 15 Если, следовательно, существуют превосходящие движения (ὑπερέχουσαι κινήσεις), то они разрушат одно другое, если же таковых не существует, то остается возможность их существования (так как бесконечная сила невозможна в той же мере, в какой невозможно бесконечное тело), а вместе с ней существует и возможность разрушения неба. Действительно, что может помешать этому как-нибудь случиться, если это не невозможно? А не невозможно это лишь тогда, 30 когда неизбежно ему противоположное.16 Но оставим рассмотрение этого затруднения до другого случая. 17
Должно ли существовать нечто неподвижное и внешнее по отношению к движимому, но не являющееся его частью, или же нет? И должно ли это же положение быть обязательно верным и в отношении всего универсума (ἐπὶ τοῦ παντὸς)? Странно было бы, если бы начало движения находилось внутри (εἰ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως
-
30 ἐντός). Придерживающиеся такого мнения одобрили бы сказанное Гомером:
Вам не удастся совлечь на землю с высокого неба
700a В высях сидящего Зевса, как бы вы не старались,
Даже если все боги за цепь с богинями схватятся разом. 18
Ведь совершенно неподвижное невозможно ничем сдвинуть. Именно это решает апорию, сформулированную несколько ранее: возможно или невозможно разрушить строй небес (τὴν τοῦ οὐρανοῦ 5 σύστασιν), при условии, что он базируется на начале, которое само неподвижно.
Что касается животных, то в этом случае должно существовать не только неподвижное в указанном смысле, но и нечто в них самих, способное перемещать их и обеспечивать их самостоятельное движение (τοῖς κινουµένοις κατὰ τόπον ὅσα κινεῖ αὐτὰ αὑτά). Ведь пока одна часть животного движется, другая должна оставаться неподвижной, 10 создавая опору для движения той, что движется, если, например, оно движет одним из своих членов. Ведь одна часть опирается на другую потому, что эта последняя как бы остается в покое.
Подобный вопрос может возникнуть и относительно неодушевленных вещей, пребывающих в движении. Содержат ли они в себе то, что обеспечивает их покой и то, что их движет (τὸ ἠρεµοῦν καὶ τὸ κινοῦν), и должны ли они поддерживаться чем-то неподвижным внешним, обеспечивающим их покой? Или же это невозможно в случае таких неодушевленных вещей, как, например, огонь, земля и им подобные, и их движение обусловлено первыми причинами 15 (πρώτων), которые и приводят их в движение? Ведь неодушевленные вещи всегда движет что-то иное, и началом вещей, приобретающих такое движение, всегда являются вещи, движущие сами себя (τὰ αὐτὰ αὑτὰ κινοῦντα). О вещах подобного рода мы уже говорили – и это животные, ведь все они должны содержать в себе нечто, пребывающее в покое, и снаружи опираться на нечто такое, что могло бы их поддерживать. Не ясно, существует ли некий высший и первичный [двига-20 тель], который обеспечивал бы их движение (ἀνωτέρω καὶ πρώτως κινοῦν) – и вопрос о его начале (ἀρχῆς) заслуживает отдельного рас- суждения, – однако очевидно, что животные, совершающие движения, всегда совершают его с опорой на нечто внешнее по отношению к ним, даже если они просто вдыхают и выдыхают [воздух]. Ведь не важно, перемещают (ῥῖψαι) они нечто тяжелое или же нечто легкое, 25 как, например, это делают те, кто сморкается, кашляет, вдыхает или выдыхает.
V. Должно ли нечто неподвижное быть лишь в том теле, которое передвигается в пространстве (κατὰ τόπον), или же это верно и в случае, когда тело само ответственно за свои изменения или рост? 30 О первоначальном возникновении (γενέσεως τῆς ἐξ ἀρχῆς) и уничтожении (φθορᾶς) следует сказать отдельно. Ведь если существует, как мы полагаем, первое движение (πρώτην κίνησιν), то именно оно должно быть причиной возникновения и уничтожения, а также, вероятно, и всех остальных движений. В животном мире, как и во вселенной, первое движение – это когда существо достигает зрелости (κίνησις 35 πρώτη αὕτη, ὅταν τελεωθῇ); лишь тогда оно становится причиной свое-700b го роста, если, конечно, это случается, а также [причиной] происходящих изменений; если же нет, то не необходимо [чтобы нечто оставалось неподвижным]. Но ведь первоначальный рост и изменение [в живом существе] всегда случаются благодаря чему-то иному и через другое, и ничто не может само стать причиной собственного возникновения и уничтожения, так как движущее существует раньше (προϋπάρχειν) движимого, рождающее – раньше рождаемого и ничто [не существует] раньше себя.
Лишь благо подобного рода инициирует движение, а не все прекрасное (τὸ καλόν). Ведь оно инициирует движение лишь если нечто совершается ради чего-то иного или же оказывается целью, ради которой совершается нечто иное. Мы должны признать, что видимое благо способно занять место подлинного блага; таковым может ока-30 заться приятное, так как это видимое благо. Очевидно, что, в одном отношении, вечно движимое благодаря вечному двигателю движется подобно отдельному живому существу, однако, в другом отношении, их движения различаются. Ведь если первое движется вечно, то движению животных положен предел. К тому же вечно прекрасное, воистину и изначально благое, не могущее в один момент быть благим, а в другой – нет, слишком божественно и почитаемо для того, чтобы 35 зависеть от чего-то, ему предшествующего.
Так что первый двигатель движет, сам оставаясь неподвижным, то-701а гда как стремление и волевое начало (ὄρεξις καὶ τὸ ὀρεκτικὸν) движут и сами движимы. Последнее в ряду движимых вещей уже не должно двигать что-либо еще; поэтому разумно будет заключить, что перемещение в пространстве (φορὰ) – это и есть то последнее движение, которое случается с движимыми вещами; ведь живое существо, 5 направляемое стремлением или намерением, движется и перемещается (πορεύεται) в направлении изменения, зафиксированного ощущением или воображением.
-
VII. Почему же иногда за мыслью действие следует, а иногда не следует; иногда движение следует, а иногда не следует? Нечто подобное, очевидно, случается при размышлениях и выводах относительно
неподвижных вещей.22 Правда, в этом случае целью является умоза-10 ключение (θεώρηµα), так как, помыслив две посылки, мы тут же мыслим и получаем вывод. В нашем же случае вывод, полученный из двух посылок, становится действием (πρᾶξις). Например, подумав, что всякий человек должен ходить, ты, будучи человеком, тут же пойдешь; напротив, если ты решишь, что в определенном случае ни один человек не должен ходить, ты, сам будучи человеком, тут же остано-15 вишься. В обоих этих случаях всякий поступит именно так, если ничто ему не помешает (κωλύῃ) или не воспрепятствует (ἀναγκάζῃ). Я должен сделать что-то благое; дом – это благое; я тут же строю дом. Мне нужна одежда; гиматий – это одежда; следовательно, мне нужен гиматий. Я должен изготовить то, что мне нужно; мне нужен гиматий; 20 я должен изготовить гиматий. Мой вывод «я должен изготовить ги-матий» и будет действием (πρᾶξίς); тогда как моя деятельность (πράττει) возвращает к началу: если нужен гиматий, то сначала необходимо сделать это, а до него вот это; и я тут же поступаю соответственно. Итак, ясно, что вывод – это и есть действие, тогда как предпосылки для его совершения будут двух видов: через благо (διά τοῦ 25 ἀγαθοῦ) и через возможность (διὰ τοῦ δυνατοῦ).
Как и в случае, когда к заключению приходят посредством вопросов (ἐρωτώντων),23 здесь рассудок не задерживается и рассматривает всего одну из двух посылок, а именно, наиболее очевидную. Например, если «ходить для человека хорошо», то никто не тратит время на посылку «я человек». Вещи, которые мы делаем без предварительного расчета (µὴ λογισάµενοι), мы делаем быстро, и когда человек, стремясь осуществить «то, ради чего» (τὸ οὗ ἕνεκα), привлекает для этого чувственное восприятие, воображение или размышление, то он дей-30 ствует тут же. Реализация стремления (ἡ τῆς ὀρέξεως ἐνέργεια) встает на место вопрошания и размышления. «Я хочу пить», – говорит мне желание (ἐπιθυµία). «Это питье», – сообщают мне чувственное восприятие, воображение или ум, и я тут же пью. Именно это заставляет (ὁρµῶσι) живые существа двигаться и действовать, и стремление – это конечная причина их движения; и возникает оно благодаря чув-35 ственному восприятию, воображению или мышлению. Что же касается предметов стремления (ὀρεγοµένων), то в некоторых случаях они нечто создают, а в некоторых действуют либо через желание и 701b страсть, либо через стремление и волю.
Движение [живого существа] можно уподобить движению механических игрушек (τὰ αὐτόµατα), которое обусловлено маленькими перемещениями предварительно освобожденных и соударяющихся 5 нитей;24 или движению детской повозки (ἁµάξιον), которую взобравшийся на нее ребенок движет прямо, но результирующее движение оказывается круговым, так как колеса повозки неодинакового размера: маленькие колеса выступают в роли центра [вращения], подобно цилиндрам.25 Органы живых существ также содержат в себе подобные элементы, например, сухожилия и кости: последние можно уподобить деревянным колышкам и гвоздикам, а первые подобны 10 нитям; их расслабление и освобождение обеспечивает движение.
Правда, движение игрушек и детских повозок неизменно, ведь если сделать маленькие колеса большими, а затем снова их уменьшить, то получится то же самое круговое движение. У животного же одна и та же часть обладает способностью становиться то больше, то меньше, 15 нужным образом трансформируясь (τὰ σχήµατα µεταβάλλειν), так как части его тела попеременно то расширяются от тепла, то сжимаются от холода.26 Изменяются (ἀλλοιοῦσι) они благодаря воображению, чувственному восприятию и мыслям (ἔννοιαι). Причем, чувственные восприятия сразу влекут за собой некоторого рода изменения, тогда как воображение и мышление приобретают мощь [репрезентируемых] вещей (τὴν τῶν πραγµάτων ἔχουσι δύναµιν). Так, помысленный об-20 раз (τὸ εἶδος τὸ νοούµενον) – холодного или теплого, приятного или ужасного – в некотором роде приобретает свойство самих вещей, обладающих этими качествами, и мы [непроизвольно] съеживаемся или испытываем страх от одной лишь мысли. Все эти аффекты (πάθη) представляют собой изменения (ἀλλοιώσεις), и когда в теле случается изменение, то одни его части увеличиваются, а другие уменьшаются.
25 Нетрудно заметить, что малые изменения в центре (ἐν ἀρχῇ)27 приводят к большим и многочисленным изменениям на периферии (ἄποθεν). Так, самым малым (ἀκαριαῖόν) движением [рулевого] весла можно добиться значительного поворота носа корабля. Точно так же, когда тепло или холод, или иной аффект вызывает изменение в об-
30 ласти сердца, даже в самой малой ее части, это приводит к значительным изменениям во всем теле – оно краснеет, бледнеет, трепещет, дрожит или ведет себя как-то иначе.
VIII. Начало движения, как уже было сказано, – это тот предмет, который мы желаем или, напротив, которого стремимся избежать, а тепло или холод необходимо сопутствуют мыслям или представлению об этом предмете. Мы избегаем болезненного, стремимся к приятному. От нас, конечно, ускользают изменения в малых частях 35 тела, однако из-за болезненного или приятного нас всегда морозит 702а или разогревает. Все это проявляется через аффекты. Безумная отвага, ужас, любовная страсть и другие телесные аффекты, как болезненные, так и приятные, сопровождаются потеплением и охлажде-
-
5 нием отдельных частей или всего тела. Воспоминания (µνῆµαι) и ожидания (ἐλπίδες), основанные как бы на образах этих ощущений, в большей или меньшей степени приводят к тем же результатам. Весьма разумно внутренние органические части и те из них, которые располагаются у самого начала [движения], созданы природой так,
-
10 как они есть, переходящими из твердого состояния в жидкое и из жидкого в твердое, из мягкого в плотное и наоборот. Так как все это происходит именно таким способом и так как действующее (ποιητικὸν) и претерпевающее (παθητικόν) начала обладают именно той природой, которую мы им неоднократно приписывали, то, как только одно из них оказывается действующим, а другое претерпевающим, и ни одно из них не утрачивает свое назначение, то как только одно начинает действовать, другое тут же испытывает на себе воз-
-
15 действие (πάσχει). Именно поэтому человек решает пойти и практически тут же идет, если ему не мешает что-то другое. Аффекты подобающим образом подготавливают органические части, стремление подготавливает аффекты, а воображение – стремление. Воображение, в свою очередь, основано либо на мышлении, либо на чувственном восприятии. Одновременность и быстрота достигается
20 природной согласованностью действующего и претерпевающего начал.
То, что является первым двигателем для животного, должно находиться в определенном начале. Мы уже отмечали, что сочленение – это начало для одной части [конечности] и конец для другой. Поэтому природа иногда использует его как одно, а иногда как два. Когда движение начинается от него, одна из его крайних точек должна 25 оставаться неподвижной, а другая двигаться. Ведь мы уже объяснили, что двигатель должен опираться о что-нибудь неподвижное. Крайняя точка предплечья движется, но не является причиной движения, а в локтевом суставе та его часть, которая расположена в движущемся целом, движется; при этом нечто должно оставаться неподвижным. Именно это мы имели в виду, говоря, что потенциально единая точка 30 актуально становится двумя. Вот если бы предплечье было живым существом, то где-то возле этой точки мы бы и расположили то начало, которое движет душа.
Но так как неодушевленный предмет может относиться к предплечью так же, как предплечье к локтевому суставу (например, если человек рукой движет посох), то ясно, что душа не может находиться 35 ни в одной из этих крайних точек, ни в той, что движет, и ни в противоположном ей начале движения (ἐν τῇ ἑτέρᾳ ἀρχῇ). Ведь и у посоха, 702b по отношению к руке, есть начало (ἀρχὴν) и конец. Если, по указанной причине, начало движения, инициируемого душой (ἡ κινοῦσα ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀρχὴ), не находится в посохе, то нет причины помещать его и в руку. Ведь самое начало руки так относится к запястью, как запястье – к локтю. В этом отношении не важно, присоединяется ли та 5 или иная часть к телу естественным путем (προσπεφυκότα) или нет, так как посох выполняет роль отделяющегося (ἀφαιρετὸν) члена. Итак, начало движения не может находиться в каком-либо начале, которое является завершением чего-либо другого. Например, начало движения основания посоха в руке, а начало движения руки в запястье. Но 10 если начало движения не в руке, так как у нее есть продолжение выше (ἀνωτέρω), то не найти его и там; ведь – повторим это еще раз – если локоть находится в покое, то непрерывная (συνεχές) часть, расположенная под ним, может совершать движение как целое.
-
IX. Так как левое и правое подобны друг другу и противоположные [части тела] способны двигаться вместе, так что правая часть не может двигаться потому, что левая остается в покое, и наоборот, и так как начало движения следует поместить в чем-то таком, что пре-
- 15 восходит обе эти части, то, следовательно, начало души, ответственной за движение, должно поместить между ними, ведь именно середина ограничивает обе крайности (τῶν ἄκρων τὸ µέσον ἔσχατον). Это относится как к движениям, начинающимся сверху, так и к тем, что начинаются снизу, например, движениям, начинающимся от головы, и движениям, начинающимся от спинного мозга у тех животных, у 20 которых он есть.
И для этого есть разумные причины. Ведь мы утверждаем, что орган чувственного восприятия (τὸ αἰσθητικὸν) также расположен в центре тела. Так что, если область вокруг начала движения изменяется под воздействием чувственного восприятия и части тела, к нему присоединенные, вместе с ним меняются под влиянием растяжения или сжатия, то за этим необходимо следует движение животного. Сере-25 дина тела потенциально одна, но актуально необходимо должна стать большим. Ведь конечности приводятся в движение из начала одновременно, так что одна неподвижна, а другая движется. Например, в АВГ В движется, а А его движет. Но что-то должно оставаться в 30 покое, если одно собирается двинуться, а другое его привести в движение. Следовательно, потенциально единое А актуально становится двумя, не точкой, но уже по необходимости некой величиной (µέγεθος). Г может быть приведено в движение одновременно с В, а значит оба начала в А должны двигать, сами двигаясь (κινουµένας κινεῖν). В таком случае должно быть нечто, отличное от этих двух 35 начал, двигающее, но не движимое. В противном случае, когда начнется движение, крайние точки, или начала в А будут опираться 703а друг на друга (πρὸς ἀλλήλας κινουµένων), как если бы два человека, подпирая друг друга спинами, двигали конечностями. Так что должно существовать нечто, двигающее их обоих, а именно, душа, отличная от вышеописанной величины, однако расположенная в ней.
-
X. В соответствии с определением причины движения, стремление 5 (ὄρεξις) есть середина, движущее и само движимое. В одушевленных телах должна найтись телесная сущность (σῶµα), соответствующая этому описанию. Движимое, но не обладающее природной способностью (δύναται) приводить в движение, подвержено воздействию со стороны внешней мощи (δύναµιν). Движущее же, напротив, необходимо должно обладать мощью и силой (ἰσχύν). Ясно, что все живот-10 ные обладают врожденным духом (πνεῦµα σύµφυτον) и через него проявляют свою силу. (О том, что сохраняет врожденный дух, было
сказано в другом месте).28 Этот дух, как представляется, выполняет ту же роль в душевном начале, как точка в сочленении, движимая и движущая по отношению к неподвижному. А так как начало у одних животных находится в сердце, а у других в том, что аналогично сердцу, то ясно, что жизненный дух также располагается в нем. Остается 15 ли дух вечно неизменным, или же постоянно изменяется, следует рассмотреть в другом месте (так как это верно и в отношении других частей тела). Ясно лишь, что он самой природой создан для того, чтобы приводить в движение и прикладывать силу. Задачи (ἔργα) движения – тянуть или толкать, в результате чего движимый орган ока-20 зывается способным растягиваться или сжиматься. Но ведь именно такова природа духа. Сжимаясь, он теряет силу (ἀβίαστος συστελλοµένη), а силу и способность выталкивать ему придает одна и та же причина [то есть расширение], и он тяжелее огненного элемента и легче ему противоположного. 29 Причиной движения без изме-25 нения должно быть именно это. Ведь природные тела [τὰ φυσικὰ σώµατα, элементы] преодолевают друг друга по мере того, как одно начинает преобладать над другим; легкое побеждает и тянет вниз более тяжелое, а тяжелое поднимается вверх более легким.
Мы объяснили, какова та часть, через движение которой душа инициирует движение, и по какой причине. Устройство живого организма можно уподобить управляемому хорошими законами (εὐνοµουµένην) по-30 лису. Когда в таком полисе единожды устанавливается порядок, то сразу же отпадает необходимость в единоличном правителе (µονάρχου), произвольно вмешивающемся во все дела, но каждый поступает так, как предписано, и одно действие следует за другим по привычке (διὰ τὸ ἔθος). В животных то же самое происходит естественным образом, и они устроены так, что каждая их часть природой предназначена для выпол-35 нения определенной работы. Поэтому душа не должна находиться в каждой части, но так как она расположена в некоем [правящем] начале 703b тела, остальные части живут благодаря естественной связи с ним (προσπεφυκέναι) и выполняют работу, предписанную им природой.
-
XI. Мы обсудили, как живые существа совершают произвольные (ἑκουσίους) движения и по каким причинам. Некоторые их члены со-5 вершают также и невольные движения (ἀκουσίους), однако чаще всего – непроизвольные (οὐχ ἑκουσίους). Невольными я называю, например, [учащенное] сердцебиение и эрекцию полового члена, ведь их нередко вызывает какой-нибудь образ (φανέντος), а не предписание разума. Непроизвольные – это, например, сон, пробуждение или ды-10 хание. Ведь, строго говоря, за них не отвечает ни воображение, ни стремление. Но так как живые существа неизбежно изменяются физически и их члены, изменяясь, одни увеличиваются, а другие уменьшаются, то и их тела оказываются подвержены взаимным движениям и естественным преобразованиям (и причина этих движе-15 ний – естественное нагревание и охлаждение, как внешнее, так и внутреннее), поэтому движения, возникающие в вышеупомянутых частях вопреки разуму, случаются благодаря изменениям (ἀλλοιώσεως συµπεσούσης). Ведь мысль и воображение, как уже говорилось, ответственны за состояния, порождающие страсти (παθηµάτων), так как 20 именно они создают образы вещей, их производящие. И в вышеупомянутых органах это движение проявляется более отчетливо потому, что каждый из них, в определенном смысле, ведет себя как отдельный живой организм.30 Что касается сердца, то причина ясна, так как именно оно есть начало ощущений, а на то, что детородный член та-25 кой же природы, указывает то обстоятельство, что именно через него проходит семенная сила, сама своего рода живое существо. Ведь вполне разумно (εὐλόγως), что движения передаются (συµβαίνουσι) началу от частей и частям от начала, так достигая друг друга. Пусть А 30 будет началом. Движение в каждой букве начерченной ранее диаграммы [см. 702b25] достигает начала и от [центрального] начала, двигаясь или претерпевая изменение (каковых потенциально много), начало движения В движется к В, начало движения Г движется к Г, и вместе они обоюдно друг к другу. Но двигаясь от В к Г мы сначала 35 переходим от В к А как началу, а затем от А к Г как от начала. Напротив, движение, противоположное разуму (παρὰ τὸν λόγον), иногда возникает, иногда не возникает в частях тела, даже будучи инициировано одними и теми же мыслями. Это происходит потому, что материя, подверженная изменению (τὴν παθητικὴν ὕλην), иногда присутствует,
704а а иногда не присутствует в должном количестве (τοσαύτην) и подобающего качества (τοιαύτην).
704b Мы поговорили о частях разных животных, о душе, о чувственном восприятии, о сне, о памяти и движении в целом, и обсудили их причины. Осталось поговорить о рождении [животных].
Список литературы Аристотель о движении животных
- Grant, E. (2012) “Reflections of a Troglodite Historian of Science,” Osiris 27, 133-155.
- McGrath, Ali; Clarke St., prod. (2011) Ancient Discoveries (BBC).
- Nussbaum, M. C. (1978) Aristotle's de Motu Animalium. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Peck, A. L., Forster, E. S. tr., Marshall, F. Y. F., ed. (1937, 1961) Aristotle. Parts of Animals. Movement of Animals. Progression of Animals. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Penrose, R. (2010) Cycles of Time. Random House.
- Петрова, М. С. (2016) «Аристотелевское наследие в биологии, медицине и этике. Осенняя школа молодых ученых», Диалог со временем 55, 388-396.
- Prigogine, I. (1997) The End of Certainty. London: The Free Press.
- Pines, S. (1961) “Omne quod movetur necesse est ab alieno moveri: A refutation of Galen by Alexander of Aphrodisias and the theory of Motion,” Isis 52, 21-54.
- Sorabji, R. (1983) Time, Creation and the Continuum. London.
- van Raalte, Marlein ed. (1993) Theophrastus. Metaphysics. Leiden.
- Афонасин, Е. В. (2016) «Аристотель и Теофраст о теоретических и методологических основаниях метеорологии», Сибирский философский журнал 2.
- Оглезнев, В. В. (2016) «Дескриптивный и аскриптивный подходы к объяснению действия», ΣΧΟΛΗ (Schole) 10.2, 471-482 (этот выпуск).
- Пенроуз, Р. (2014) Циклы времени. Пер. А. В. Хачояна. Москва.
- Пригожин, И. (2001) Конец определенности. Пер. Ю. А. Данилова. Москва-Ижевск.
- Рожанский, И. Д., ред. (1981) Аристотель. Сочинения. Том 4: Физика. О небе. О возникновении и уничтожении. Метеорологика. Москва.