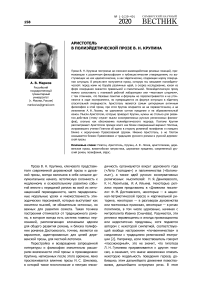Аристотель в полиэйдетической прозе В. Н. Крупина
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.
Бесплатный доступ
Проза В. Н. Крупина построена на сложном взаимодействии речевых позиций, примыкающих к различным философским и публицистическим утверждениям, но выступающих не как идеологические, а как эйдетические, создающие норму созерцания ситуации. В результате получается проза, которую мы называем полиэйдетической: перед нами не борьба различных идей, а скорее исследование, какая из форм созерцания окажется правильной и спасительной. Полиэйдетическую прозу можно сопоставить с плановой работой лаборатории или «мозговым штурмом», с тем отличием, что базовые понятия и формулы не пересматриваются и не уточняются в ходе эксперимента, но превращаются из формул интуиции в эйдетику спасительной очевидности. Аристотель является самым цитируемым античным философом в этой прозе, при этом Крупин опирается не на первоисточники, а на изложение А. Ф. Лосева, на церковное устное предание и на образовательный канон. Мысли Аристотеля, которые приводит Крупин, нужны не столько для развития действия (этому служат мысли консервативных русских религиозных философов), сколько как обоснование полиэйдетического подхода. Поэтому Крупин рассматривает Аристотеля прежде всего как более совершенный вариант Платона, исправившего учение Платона об идеях в сторону романной полифонии и стоящего ближе к вероучению Православной Церкви. Именно Аристотель, а не Платон оказывается близок Православию и традициям русского романа и русской деревенской прозы.
Платон, аристотель, крупин, а. ф. лосев, аристотелизм, деревенская проза, византийская патристика, церковное предание, современный русский роман, полифония, эйдос
Короткий адрес: https://sciup.org/14117500
IDR: 14117500
Текст научной статьи Аристотель в полиэйдетической прозе В. Н. Крупина
Проза В. Н. Крупина, ключевого представителя современной деревенской прозы и духовной прозы, всегда включала в себя сильное документальное начало, летописную склонность к медленному и основательному развитию событий вместе с передачей реплик во всей их интонационной первозданности, часто парадоксальные моральные уроки и множественность эпизодических персонажей, которые выступают как носители мыслей, не обязательно истинных, но важных для развития сюжета. Такая техника построения отличается от традиционного романа, в котором всегда есть система главных персонажей, располагающих ключевыми идеями для общего развития романа, и близка полифонии романов Достоевского, точнее, является ее вариантом, адаптированным для целей деревенской прозы, для местной летописи.
Перестройка и возвращение запрещенной литературы и философии значительно расширили возможности этой прозы: в произведениях Крупина, написанных после этого времени, явно прослеживается влияние прозы И. С. Шмелева, в которой такое многоголосие и пестрая эпизо- дичность организуются вокруг церковного года («Лето Господне») и паломничества («Богомолье»), а также идей русских консервативных религиозных мыслителей: Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, И. А. Ильина. Некоторые реплики героев представимы в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского, некоторые — в нацио-нал-патриотической прессе и маргинальной риторике, некоторые — в разговорах духовенства или постоянных прихожан, некоторые — в речах политиков, в том числе церковных, начиная с митрополита Иоанна (Снычёва). Разумеется, эти реплики неравноценны и иногда провокационны или недостаточно продуманы, хотя подаются автором с некоторой симпатией, соответствующей вообще настроениям «почвенничества» в соединении с традициями религиозной эмиграции [2]. Например, если повествователь говорит «пассионарный», это не значит, что гипотеза Л. Н. Гумилева приравнивается к другим тезисам, а означает, что иначе невозможно описать некоторую модальность поведения героев, добившись этим дальнейшего движения повествования, дальнейшего остроумия речи. В этом смысле Крупин может быть назван прямым антагонистом Михаила Шишкина, в прозе которого тоже речь, письмо определяют и повороты сюжета, и модальности поступков и решений героев, но целью Шишкина оказывается исследование свободного нравственного выбора, а целью Крупина — соответствия России во всем многообразии действий и мыслей ее обитателей некоторому небесному образу, хотя бы предварительному, имеющемуся лишь в плане. Разумеется, у обоих писателей эксперимент может оказаться неудачным, но он честно доводится до конца. Важным в прозе Крупина является не содержание высказывания, которое иногда может быть неприемлемым для многих читателей, а стремление сопоставить высказывание с высшей правдой, при том что это сопоставление произойдет не сразу.
Поэтому произведения Крупина нельзя назвать идеологическими, такими, в которых правильный герой отстаивает правильные мысли. Для Крупина правильно мыслят отцы Церкви, но они не выступают героями его прозы, а старцы и священники выступают отдельными репликами, смысл которых еще должен раскрыться по ходу повествования. Но мы оказываемся сразу в гуще событий и обсуждений, мы уже слышим различные реплики и знакомимся с разными героями. При этом технически проза Крупина часто организована как пересказ уже прозвучавших слов и разговоров, что позволяет сблизить ее с диалогами Платона. Отличие от платоновского диалога здесь прежде всего в том, что если в диалоге Платона Сократ собирает повествование, показывая, какие аргументы работают, а какие нет для перехода к общим философским вопросам, то здесь таким Сократом выступает сам повествователь, от которого и зависит неспешность и рассудительность повествования. Мы можем условно назвать такую технику «по-лиэйдетическим» романом, имея в виду смысл слова «эйдос» («идея») в системе Платона — образ, то, что познается как истина, но никакая речь об этом и никакое созданное художественным мастерством подобие этой истиной не является. Полиэйдетическая проза близка полифонической прозе, с тем различием, что герои не столько ставят эксперимент, сколько оказываются внутри эксперимента, поставленного автором. Этот термин может объяснить такие уже отмеченные исследователями особенности, как глубокая концептуальная основа даже самых прямых репрезентаций, картин происходящего, в прозе Крупина [9] и применение молчания как особого приема, позволяющего посмотреть со стороны как на событие, так и на речь [10]. Хотя сам Крупин большую часть своей прозы не называет романами, но полиэйдетический принцип работает в ней так же, позволяя считать ее чем-то вроде романного этюда или фрагмента.
Этот эксперимент для прозы Крупина последних тридцати лет можно описать так: как возможно говорить о России как о святом месте, святой Руси, если заведомо жизнь людей в России далека от святости и высказывания о святости никогда не могут смоделировать святость, создать икону святости, которую можно воспринять, следовать и освятиться. Крупин как практикующий православный христианин исходит из того, что святость возможна только в таинствах Церкви и молитве, но вовсе не в создании каких-то образцов и моделей. Поэтому любое высказывание о святости модально, даже житие святого не столько является шаблоном, сколько показывает, как можно отнестись к современности, к другому, поощрить, ободрить, обличить. Речевые формы в высказываниях Крупина никогда не бывают нейтральными, это всегда усмешка, упрек, прославление, восклицание, клятва и другие формы, близкие иногда к пер-формативности, но которые для удобства лучше называть «эйдетическими».
Тогда проза Крупина работает как лаборатория, причем лаборатория старого типа, которая должна получить результат, параметры которого заранее известны. При этом материалы, методы и даже способы описания далеки от совершенства, мы никогда не знаем дополнительных эффектов оборудования или правильного строения алгоритма, но методом проб и ошибок, убирая эти эффекты или вводя дополнительные факторы воздействия, получаем нужный результат. Так же построен «мозговой штурм» в деловой жизни — мы заранее не знаем ни одного метода решения проблем, но спонтанно высказанные предложения, самые разные реплики, за которыми стоят столь же разные «эйдо-сы», помогут преодолеть неправильный стандарт решения проблемы и добиться результата на данном узком поле. Оба эти образа, лаборатории и штурма, или, если можно так сказать, «технических эйдоса», нужно помнить, когда мы читаем прозу Крупина, встречая самые разные реплики, часто заостренные политически или этически, и при этом видим, что для него наследие отцов Церкви незаменимо и непревзойденно. Значит, литература для него — это не адаптация церковного учения, а особая работа с модальностями, доброжелательными или суро- выми, с целью приблизиться к нему. Следует заметить, что современная лаборатория обычно как раз не знает и параметров результата, потому что само вхождение лаборатории в игру уже сказывается на этих параметрах, и изобретательность лаборатории в эпоху сетей и больших данных построена иначе, в том числе лаборатории художественного слова [8].
Аристотель — самый цитируемый античный мыслитель в прозе Крупина. Он появляется в повести «Как только, так сразу» в разговоре с Петей [3, c. 45], который как раз представляет собой однозначно заблуждающегося русского, ленивого мыслью, легко подхватывающего лозунги, но не способного на политический анализ. При этом политический анализ повествователя получается однозначно антизападным, как всегда, Крупин упрекает Запад в непоследовательности и авантюрности. Повествователь хочет, чтобы Петя познакомился с наследием Древней Греции и Византии, в частности, «Государством» Платона, дабы разбираться, как устроены политические системы и действие мыслителя в неблагоприятной политической системе.
При этом повествователь начинает излагать античность с Аристотеля, с учения Аристотеля об энтелехии, приводя цитату из А. Ф. Лосева («старик Лосев привет передает»), перемежая ее ремарками: «Аристотель учил об энтелехии, которая есть не что иное, как потенциально-энергийное и притом эйдетическое (понял, Петя, — притом!) становление всего существующего. Это следствие дистинктивно-дескрип-тивного характера философии Аристотеля. Это, с одной стороны (с одной, Петя, все-таки) связывало Аристотеля с ноуменализмом Платона и с веком эллинизма. В принципе энтелехии объективная субстанциальность получила окончательную форму абстрактно-всеобщего становления категорий. Дальше наступало время не просто субстанциализма и взаимопроникновения логических категорий…» Приведена цитата из книги Лосева «История античной философии в конспективном изложении» [7, c. 77], но с некоторыми изменениями: опущено «так называемой» перед «энтелехии» и везде заменено «его» на «Аристотеля». Полностью последняя фраза Лосева звучит так: «Дальше уже наступало время не просто объективизма, не просто субстанциализма, но и не просто абстрактновсеобщего сопоставления и взаимопроникновения логических категорий», иначе говоря, эпоха эллинизма.
Предназначение такой цитаты хотя и из краткого и рассчитанного на студентов, но при этом требующего предварительных специальных знаний по истории философии, которыми читатель Крупина не обладает, останется неясным, пока мы не вспомним о «полиэйдетично-сти» его прозы. Перед Петей и другими героями стоит задача понять, как возникла эллинистическая норма разговора о вещах, которая должна стать нормой автономного разговора, сохранения греческой традиции, а значит, и независимости России как наследницы Византии. Лосев в приводимой цитате выводит учение об энтелехии как завершенной форме бытия и понимания бытия из «дистинктивно-дескриптивного характера философии Аристотеля», иначе говоря, из привычки Аристотеля давать подробное описание проблемы, основанное на определениях и ведущее к определениям. Иначе говоря, Аристотель создает полиэйдетичность, но замкнутую в рамках определений, в форме «абстрактно-всеобщего становления категорий».
Повествователь Крупина акцентирует внимание Пети на том, что «эйдетическое», связанное с идеей, становление оказывается «притом» и что Аристотель связан с Платоном только «с одной стороны», остроумно каламбуря и превращая преподавательское изложение Лосева, взвешивающее всё на весах внимания, в признание некоторой односторонности Платона и того, что эта односторонность появляется там, где появляется Платон. Упоминание Платона — это акцент на том, что становление еще и эйдетическое, еще и находится в каком-то отношении к идеям, что это еще не раскрытие действительной конфигурации вещей. Получается, что Аристотель, и об этом говорит некоторый обрыв цитаты, порвал с односторонностью и добился объективной субстанциальности, из которой выводится сам порядок реальности. Ведь раз становление категорий абстрактно-всеобщее, то порядок событий, сопровождающих эту объективную субстанциальность, может быть самым различным, и раз логические категории проникают друг в друга, то любые, даже нелепые события нашей жизни будут реальностью, будут чем-то значимым. Но цитата оборвана, и получается, что одной этой впечатляющей реальностью, состоящей из некоторого произвола, доволен не будешь.
В записках «Дорогами православной Греции» [4, с. 17] Крупин вспоминает, сразу после упоминания своего юношеского увлечения образами античности и чтением, что Афон находится недалеко от Стагиры, родины Аристотеля. И тут же он говорит, как перед отправлением на Афон жил в отеле «Аристотель» в Урануполи- се — замечательно, что не «гостиница», а «отель», подхватывается речь туристов, и рассказывает комический эпизод, как он решил ночью искупаться и поранил ногу. В этом он видит личную дерзость, телесное знакомство с Грецией, с ее эллинизмом, вопреки благословению — которое бы определяло порядок как раз знакомства со смыслами. Так глубина впечатлений от реальности всех, даже нелепых событий остается, и это впечатление Крупин считает достойным своей документальной прозы, хотя поучительность такого результата непослушания совсем не универсальна. Просто Крупину важна эта энтелехия, что все впечатления сложились во вполне завершенную картину памяти, важную для души, и дальше уже дело старца, духовного наставника, научить человека аскезе и умению избегать страстей. Так и оказывается, что где Аристотель, там энтелехия, определяющая любую последовательность приятных и неприятных событий жизни, которые все оставляют впечатление. Но произвол наблюдения обрывается, чтобы воспринять поучительный урок, который не мог воспринять Петя, что страсть может проявиться даже там, где ты употребляешь все правильные слова, они не спасают от этой физиологической травмы столкновения с реальностью. И как воспринимается этот урок, показывают и другие произведения Крупина, в которых упоминается Аристотель.
Так, в автобиографической прозе «Событие, вписанное в вечность», написанной в те же годы, что и паломнические записки, Крупин описывает впечатление от возвращения на родину для восстановления храма: «Все съежилось и уменьшилось: и двор, обтяпанный по сеновалы, да и сеновалов нет, убогие сарайки для дров, нет красивых ворот с резными столбами и овальной табличкой на них: “Российское страховое общество 1903 года”, нет погреба, хлевов, огорода, палисадника с мальвами и ноготками. Но они есть в памяти, и так ощутимо, что я вслед за Аристотелем готов сказать, что идея предмета более живуча, чем сам предмет. Чувства определяют поступки и формируют память. А память — может быть, главная составляющая души» [5, с. 4]. Конечно, при слове «идея» нам вспоминается скорее Платон, чем Аристотель. Но ключевым здесь оказывается как раз слово «живуча». Платон для Крупина — исследователь политических технологий и слов, тогда как Аристотель — исследователь того, как эти слова начинают уже находиться в определенном отношении к бытию. Платоновская идея не может выстроить ту цепочку чувство — память — ду- ша, которая важна для Крупина, на идею можно реагировать и чувственно, и умственно, она для рефлектирующего человека, выросшего в советское время, грозит превратиться в идеологию, и Крупин отвергает идеологизацию. Тогда как Аристотель выстраивает сам порядок восприятия эйдетического, который может определять самые глубокие впечатления человека. Другое дело, что после этого выстроенного порядка, который не от нас зависит, который построен тем самым абстрактно-всеобщим становлением категорий, нужно выяснить, какие еще составляющие души есть, чтобы не отдать душу на растерзание страстям.
И в последней книге писателя «Эфирное время» при упоминании Аристотеля как раз и представлено аскетическое учение о страстях, хотя оно никак не развито, но без него образ Аристотеля не будет никак обоснован, не будет понятно, почему вообще имя Аристотеля появилось. В этой книге дан диалог нескольких русских людей разных профессий. В нем музыкант, чья профессия узнается по громкому голосу, но скорее по патетичному отношению к музыке, цитирует якобы Аристотеля: «Аристотель изрёк: хотите крепкое государство — контролируйте музыку!» [6, с. 38]. Его поправляют, что это взято из «Государства» Платона. Как и в повести начала 1990-х, Крупин упоминает диалог «О государстве», иногда так его называли в дореволюционной духовной литературе, калькируя принятое в изданиях греческого текста название. Иначе говоря, музыкант выдает себя не просто какими-то признаками своей профессии, а движением к страсти, возмущению, политическому замыслу, или в аскетической терминологии, с которой Крупин хорошо знаком, — движением от «прилога» к «страсти». Соответственно, собеседник обращает его ум к Платону, который в своем большом диалоге, как утверждал Крупин в повести «Как только, так сразу», обличал манипулятивность тогдашней политики — в ней повествователь видел истоки макиавеллизма Запада. Иначе говоря, Аристотель опять выступает как предшественник эллинизма, и речь идет уже не просто о страсти как непослушании, но об определенной механике страсти, которая раскрывается не в ходе сюжета, а в особенностях построения прозы, с поли-эйдетическим соперничеством определений и спонтанных или не спонтанных действий.
Слово «контроль», которое здесь появляется, постоянно и многократно использует в рассуждениях о взглядах Платона на музыку не Лосев (у которого это слово встречается нечасто), а Асмус, коллега Лосева по составлению русского издания Сочинений Платона, в своем комментарии-реферате «Государство». Асмус говорит, что такой контроль не просто строгий, но постоянный: «Правители-философы платоновского полиса не только держат искусство в поле своего неусыпного внимания, они осуществляют строгую и бескомпромиссную опеку, контроль над всем, что имеет в искусстве общественное значение. Воспитательное действие искусства требует этого постоянного и неослабного контроля со стороны правителей» [1, с. 557]. Иначе говоря, Крупин осуществляет здесь перевод: он переводит это постоянство характера, о котором говорит Асмус (и Лосев как составитель тома), которое тоже, по аскетическому учению, может обернуться не просто страстью, но гордыней, — в постоянство эллинистической культуры, которая и служит особому чувству реальности, всегда предшествующему взятию на себя аскетических обязательств. Как Крупин начал со спонтанного обрыва цитаты Лосева, создавая эффект реальности в преддверии аскетики, так и здесь, производя особый перевод, он доказывает необходимость аскетики.
Таким образом, Аристотель оказывается в прозе Крупина не просто интересующим писателя античным мыслителем, не источником мудрых мыслей и даже не прямым предшест- венником византийской патристики. Интерес Крупина к Аристотелю довольно редкий среди русских писателей, обычно предпочитающих Сократа и Платона как символизирующих античную интеллектуальную культуру. Он строит свою прозу особым образом, чтобы, с одной стороны, показать эффекты реальности, продолжая реалистическую традицию, а с другой стороны, доказать необходимость аскетической борьбы со страстями, которая никак не следует из реалистического изображения конфликтов или впечатлений. Поэтому писатель создает особую технику рассказа о реальности, включающую в себя обрыв цитаты, заострение полемики, игру стилистическими регистрами, включая обличительный и комический, позволяющую перейти от впечатлений и воспоминаний к аскетике. Вновь и вновь возвращаясь к наследию Аристотеля как к дисциплине ума, Крупин уточняет не просто желательность, но необходимость аскетики как опыта истины. При этом Крупин создает полиэйдетическую прозу, в которой реплики героев оказываются способом создавать модальности, и в таком случае Аристотель сначала обосновывает модальность серьезного отношения к «памяти» и «душе», а затем, в последующем разговоре, требует уже аскетической заботы о душе и противостоящей любым манипуляциям строгости самоотчета.
Список литературы Аристотель в полиэйдетической прозе В. Н. Крупина
- Асмус В. Ф. Комментарии к диалогу Платона "Государство" / В. Ф. Асмус // Платон. Сочинения. Т. 3, ч. 1. - М.: Мысль, 1971. - С. 526-560.
- Кабылкова А. А. Почвеннические традиции первой волны русской эмиграции в творчестве В. Н. Крупина / А. А. Кабылкова // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. - 2018. - № 1. - С. 40-48.
- Крупин В. Н. Как только, так сразу: повесть / В. Н. Крупин // Наш современник. - 1992. - № 12. - С. 3-50.
- Крупин В. Н. Дорогами православной Греции / В. Н. Крупин. - М.: Синтагма, 2010. - 320 с.
- Крупин В. Н. Событие, вписанное в вечность / В. Н. Крупин // Русь державная. - 2000. - № 9. - С. 4.
- Крупин В. Н. Эфирное время / В. Н. Крупин. - М.: Вече, 2018. - 384 с.
- Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении / А. Ф. Лосев. - М.: Мысль, 1989.
- Моркина Ю. С. Научное и художественное творчество: идеальные объекты / Ю. С. Моркина // Вопросы философии. - 2019. - № 7. - С. 150-161.
- Покручина М. Ю. Ментальная репрезентация текстов В. Н. Крупина / М. Ю. Покручина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. - 2017. - Т. 36, № 28(277). - С. 14-23.
- Юдинцева Е. Л. Молчание в повестях В. Н. Крупина "Ямщицкая повесть" и "Живая вода" / Е. Л. Юдинцева // От текста к контексту. - 2013. - № 1. - С. 106-114.