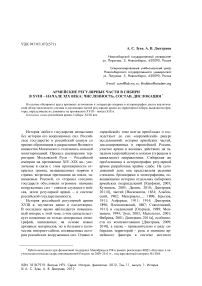Армейские регулярные части в Сибири в XVIII - начале XIX века: численность, состав, дислокация
Автор: Зуев Андрей Сергеевич, Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
На основе обширного круга архивных источников и литературы впервые в историографии дается аналитический обзор численности, состава и дислокации частей регулярной армии на территории Сибири, выявляются факторы, определявшие их динамику на протяжении XVIII - начала XIX в.
Российская армия, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/14737636
IDR: 14737636 | УДК: 947.05/.072(571)
Текст научной статьи Армейские регулярные части в Сибири в XVIII - начале XIX века: численность, состав, дислокация
История любого государства немыслима без истории его вооруженных сил. Российское государство и российский социум со времен образования и разрастания Великого княжества Московского отличались сильной милитаризацией. Процесс расширения территории Московской Руси – Российской империи на протяжении XIV–XIX вв., увеличение в связи с этим протяженности открытых границ, незащищенных морями и горами, встречные притязания на земли, занимаемые Россией, со стороны соседних государств обусловили огромное значение вооруженных сил – сначала служилого войска, затем регулярной армии – в системе российской государственности.
История российской регулярной армии XVIII в. изучается давно и плодотворно. В последнее время наблюдается повышенный интерес к этой теме, о чем свидетельствует появление не только интересных монографий, написанных на основе новых архивных материалов, но и большого количества интернет-сайтов, посвященных истории российских вооруженных сил. Однако в
«армейской» теме всегда преобладал и господствует до сих «европейский» ракурс исследований: история армейских частей, дислоцированных в европейской России, участие армии в военных действиях на западном (европейском) и южном (турецком и кавказском) направлениях. Сибирская же проблематика в историографии регулярной армии разработана крайне слабо. На сегодняшний день она представлена редкими статьями, брошюрами и монографиями, освещающими историю отдельных сибирских армейских подразделений [Кауфман, 2003; Кузнецов, 2003; Демин, 2010; Дмитриев, 2011б], частей [Висковатов, 1854; Альбов-ский, 1902; Материалы…, 1896; Крылов, 1911; Алферьев, 1911; 1914; Дмитриев, 1896; Плескановский, 1887; Соколовский, 1911] и соединений [Огурцов, 1989; Менщиков, 1994; Зуев, 2003; Малолетко, 2001; Фабрика, 2001; Дмитриев, 2011а], особенности их комплектования [Дмитриев, 2009; 2010], а также – применительно к ряду сибирских территорий – роль и значение армейского фактора в системе местного управления [Пережогин, 2005; Пузанов, 1999] и в формировании социальной структуры сибирского общества [Быконя, 1985; Исупов, 2000; Акишин, 2005]. Единственным исключением являются исследования С. В. Андрейчука, посвященные истории Сибирского корпуса на протяжении второй половины XVIII в., в которых рассмотрены внутренняя структура, численность и расположение сибирских воинских частей [2010; 2011]. Кроме того, отрывочные сведения о численности, составе, дислокации и функциях армейских частей содержатся в трудах по истории Сибири, ее регионов, сибирского казачества, внешней политики и формирования границ России на южно-сибирских рубежах и, наконец, в справочных материалах, выложенных на интернет-сайтах. По сути, единственным исследованием, из которого можно почерпнуть обобщенные сведения о частях регулярной армии, дислоцированных в Сибири в XVIII в., остается до сих пор многотомное «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», составленное А. В. Висковатовым и И. Г. Бибиковым и изданное первый раз в 1841–1862 гг. 1 Другой фундаментальный труд – «Столетие Военного министерства», содержащий обширную информацию о различных родах войск и структуре управления ими, – в описании истории армейских частей в Сибири отличается крайней скупостью и фрагментарностью [Столетие…, 1902. С. 39, 40, 168, 206, 265, 302, 303].
В целом приходится констатировать, что на сегодняшний день в историографии имеется весьма смутное представление о процессе формирования и функционирования регулярных войск на территории Сибири, их комплектовании, управленческой структуре, материальном снабжении, вкладе в хозяйственное освоение и т. д. Более того, остается непонятным, какую реально роль играли регулярные части в восточных регионах империи. Все эти вопросы требуют изучения. И для этого имеется обширная источнико-вая база: в центральных и местных сибирских архивах хранится огромное количество делопроизводственной документации, которая позволяет раскрыть основные аспекты обозначенной нами темы.
В данной статье, синтезируя сведения, извлеченные из архивных источников и научной литературы, мы предполагаем ответить на вопрос: как и вследствие каких обстоятельств менялись состав, дислокация и общая численность регулярных частей в Сибири на протяжении XVIII – начала XIX в., т. е. с петровских реформ, когда за Уралом появились первые регулярные части, до 1810-х гг. – до вывода из Сибири регулярных полевых полков и реорганизации местной структуры вооруженных сил (создания Сибирского линейного казачьего войска, корпуса внутренней стражи, этапных команд и т. д.).
До начала XVIII в. вооруженные силы России в Сибири были представлены в основном служилыми людьми. Предпринятая в первой половине 1660-х гг. попытка создать в Западной Сибири полки «нового строя» – солдатский и рейтарский – успеха не имела. К концу 1660-х гг. был расформирован солдатский полк, а из рейтарского осталось всего три роты, окончательно ликвидированные в 1678 г. Созданный к 1670 г. драгунский полк, фактическая численность которого далеко не достигала штатного расписания, просуществовал до 1689 г., когда драгуны были переведены в беломестные казаки. В 1698 г., уже в рамках военной реформы Петра I, этот полк был восстановлен (по царскому указу от 22 декабря 1697 г.). Имея штатную численность в одну тысячу человек, драгуны размещались по одной роте в каждой из 10 слобод Тобольского уезда [Дмитриев, 2008; Пузанов, 2010. С. 334–373]. Полк не имел официального наименования, хотя в исторической литературе называется то Тобольским, то Сибирским.
В первой четверти XVIII в. в ходе строительства регулярной армии ее полки стали подразделяться на полевые и гарнизонные, тогда же было сформировано несколько пехотных и драгунских полков, получивших «сибирские» наименования – Тобольский солдатский, Тобольский гарнизонный солдатский, Сибирский солдатский, Тобольский драгунский, Енисейский драгунский, Сибирский драгунский [Рабинович, 1977. С. 35, 47, 72, 87, 91, 98]. Однако собственно к Сибири они не имели отношения, поскольку формировались и дислоцировались в европейской части страны. В то время за Уралом из состава регулярной армии нахо- дился лишь упомянутый выше драгунский полк, причисленный в 1711 г. к разряду гарнизонных и поименованный Сибирским [Дмитриев, 2008. С. 196]. Правда, он сохранял ряд параметров, присущих прежним полкам «нового строя», и в собственно регулярный был реорганизован к середине 1720-х гг. [Дмитриев, 2005. С. 35; Пузанов, 2000. С. 71, 72; Акишин, 1996. С. 10]. В бытность сибирским губернатором М. П. Гагарина (1711–1719 гг.) из состава полка две роты выделялись в особый губернаторский «шквадрон» 2.
По штатному расписанию регулярной армии 1720 г. на Сибирскую губернию пришлось три двухбатальонных гарнизонных пехотных полка 3 – Санкт-Петербургский, Московский, Тобольский и один 10-ротный гарнизонный драгунский – Сибирский. Последний уже находился в Тобольском уезде, а пехотные полки прибыли в Сибирь, вероятно, в 1724 г. В это время во всех четырех полках насчитывалось около 5 тыс. чел. В 1727 г. пехотные полки были переименованы: Санкт-Петербургский – в Тобольский, Московский – в Енисейский, Тобольский – в Якутский. Два первых оставлены в Западной Сибири, а Якутский полк в том же году расквартирован в Забайкалье. Вместе с ним туда же прибыли одна рота Сибирского драгунского полка и две роты Екатеринбургской горной стражи (всего около 1,5 тыс. чел.) 4 [Русско-китайские…, 1990. С. 128, 534; Рабинович, 1977. С. 70, 72; Быконя, 1985. С. 174, 195; Огурцов, 1989. С. 22].
В начале 1730-х гг. регулярные полки дислоцировались следующим образом. В Западной Сибири квартировали Сибирский драгунский, Тобольский и Енисейский пехотные полки. Из Сибирского полка 8 рот находилось в крепостях и форпостах Иртышской пограничной линии, по одной роте – в Забайкалье и Екатеринбурге. Из пехотных полков (списочный состав на 1732 г. – 2 619 чел. солдат и офицеров) по одной роте стояло в Кунгуре и Екатеринбурге, две – в Томске, 7 рот – на Иртышской линии в Ямышевской, Омской, Железинской, Семи- палатной, Усть-Каменогорской крепостях и по форпостам (в 1732 г. – 681, в 1734 г. – 768 чел.), остальные роты значились при Тобольске 5. Якутский полк (в конце 1733 г. – 1 289 чел.) стоял в Забайкалье, его подразделения (роты или капральства) находились в Иркутске, Селенгинске, Нерчинске, Кяхтинском и Цурухайтуевском пограничных форпостах, на территории Нерчинских заводов и рудников. Охрану последних несли также две роты Екатеринбургской горной стражи 6 [Зуев, 1994. С. 15]. К 1735 г. из Якутского полка одна рота была переведена в Кузнецк 7, более роты (145 офицеров и солдат) – на Камчатку [Зуев, 2003. С. 89]. Общая численность регулярных частей в Сибири в начале 1730-х гг. составляла около 5,8 тыс. человек.
В 1730 г. командир Якутского полка И. Д. Бухольц поднял вопрос об увеличении вооруженных сил в Забайкалье путем перевода туда еще двух полков – драгунского и пехотного. Это предложение поддержал иркутский вице-губернатор А. И. Жолобов. Но сибирский губернатор А. Л. Плещеев выступил против, полагая, что забайкальская граница в дополнительных силах не нуждается, «понеже с китайцами состоит мир» 8. Губернатора больше беспокоила ситуация на юге Западной Сибири. В 1731–1736 гг. Сибирская губернская канцелярия в связи с восстанием башкир, набегами киргиз-кайсаков (казахов), а также ввиду возможного столкновения с Джунгарией неоднократно обращалась в Петербург с просьбой прислать в Сибирь несколько драгунских полков для усиления обороны западносибирской границы. Однако правительство, озабоченное в то время серьезными проблемами реорганизации и финансирования армии 9, после длительной переписки с сибирским губернатором и обсуждения вопроса в Сенате, коллегиях иностранных и военных дел, решило ограничиться формированием одного 10-ротного драгунского полка и одного пехотного батальона. В соответствии с резолюцией Кабинета министров от 7 сентября 1736 г., наложенной на доклад Сената, эти части должны были комплектоваться в самой Сибири «ис тамошних дворян и казаков и из их детей». По расписанию Сибирского приказа от 25 ноября 1737 г. в полк и батальон предполагалось набрать 1 866 чел. из сибирских служилых людей. Но с комплектованием возникли серьезные проблемы, в основном из-за позиции иркутских провинциальных властей, не пожелавших сокращать казачий контингент в Иркутской провинции. К сентябрю 1738 г. в Тобольск удалось собрать всего 919 чел. После очередных обсуждений, в соответствии с решением Кабинета министров от 15 июля 1740 г., в дополнение к «дворянским и казачьим детям» стали набирать «доимочных рекрут» 10 [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 9. № 7051. С. 924–925; Т. 10. № 7261. С. 155; Международные отношения…, 1989. С. 282–284; Огурцов, 1993; Зуев, 2007]. Сформированные таким образом части получили наименование «Новоучрежденный драгунский полк» и «Новоучрежденный пехотный батальон». Полк был дислоцирован на Иртышской линии (но одна рота драгунского полка до 1750-х гг. размещалась в Красноярске [Быконя и др., 1990. С. 67]). Батальон сначала отправили прикрывать оренбургскую границу со степью, но в 1743 г. также перевели на Иртышскую линию. По состоянию на октябрь 1745 г. в гарнизонных частях, расположенных в Западной Сибири, числилось 4 977 чел., в том числе в Тобольском полку – 1 330, Енисейском – 869, в Новоучрежденном батальоне – 425, в Сибирском драгунском полку – 1 169, Новоуч-режденном драгунском – 1 184 чел. [Потанин, 1867. С. 35].
Сохранявшиеся напряженные отношения с Джунгарией и обострение в целом с конца 1730-х гг. международного положения в Центральной Азии заставили все же российское правительство принять меры по укреплению западно-сибирской границы. Во второй половине 1740-х – 1750-х гг. реконструируется Иртышская, строятся Новая Сибирская (Пресногорьковская), Колыванская и Кузнецкая линии. В 1745 г. в Западную Сибирь на пограничные линии из европейской части страны переводят два полевых двухбатальонных пехотных (Ширванский, Нотебург-ский) и три полевых 10-ротных драгунских (Луцкий, Вологодский, Олонецкий) полка [Дмитриев, 2011а; 2011б].
В результате в Сибири теперь располагались 5 драгунских полков, 5 пехотных полков (с 1747 г. в каждом полевом полку стало не два, а три батальона) и один пехотный батальон. В том же 1745 г. из регулярных и иррегулярных войск, расположенных на пограничных линиях Западной Сибири, образуется Сибирский корпус. С конца 1740-х гг. для подавления сопротивления «немирных» чукчей и коряков началась массовая отправка солдат и офицеров из сибирских полков на крайний северо-восток Сибири: преимущественно в Анадырскую партию, а также в Охотск и на Камчатку [Зуев, 2003. С. 94–97].
К середине 1750-х гг. Сибирский, Ново-учрежденный, Луцкий, Вологодский, Олонецкий драгунские полки, Тобольский, Енисейский пехотные полки и Новоучреж-денный батальон дислоцировались в Тобольске, Тобольском подгородном и Краснослободском дистриктах, Тюмени, Туринском уезде и на западно-сибирских пограничных линиях. Нотебургский и Шир-ванский пехотные полки к 1754 г. уже были выведены из Сибири в Казанскую губернию [Андрейчук, 2011. С. 39]. По «расписанию» от 27 мая 1754 г. на Кузнецкой и Колыван-ской линиях, в том числе на охране алтайских заводов и рудников, находились Ново-учрежденный драгунский полк, команды Новоучрежденного батальона, Тобольского и Енисейского полков (всего 1 704 военнослужащих нижних чинов), на Иртышской – Луцкий и Сибирский драгунские полки (1 388), на Новой Сибирской – Вологодский и Олонецкий драгунские полки (1 428), на старых Тарской, Ишимской и Тобольской линиях – команды Луцкого и Вологодского полков (108) 11 [Пережогин, 2005. С. 89].
В Забайкалье к этому времени по-прежнему стояли Якутский полк и два капральства Екатеринбургской горной стражи, а рота Сибирского драгунского полка была выведена в Западную Сибирь. Горная стража несла службу на Нерчинских заводах и рудниках, полк был разбросан отдельными командами по Селенгинскому и Нерчин- скому уездам, в том числе, по данным «смотрового списка» полка за 1755 г., три роты – в Селенгинске и Петропавловской крепости, две роты – в Троицко-Савской крепости и на Кяхтинском форпосту, по полуроте – в Нерчинске и на Цурухайтуевском форпосту и около двух рот – по пограничным караулам. При этом более трети солдат и офицеров Якутского полка (433 из 1 158) в 1755 г. находилось в дальних командировках, из них: в Иркутске – 62, на северо-востоке Сибири – 297, в том числе в Анадырской партии – 96, в Охотске и Ямском остроге – 46, на Камчатке – 120 12 [Зуев, 1994. С. 20; Быконя, 1985. С. 178–180]. В 1755 г. командир полка и начальник Селен-гинской пограничной канцелярии В. В. Якоби добился от правительства реорганизации своего полка: полковые чины, находившие- ся в северо-восточных районах Сибири, бы- ли исключены из состава полка, который вместо них был доукомплектован рекрутами и доведен до трехбатальонного состава 13 [Висковатов, 1899. Ч. 3. С. 18]. К середине 1750-х гг. в забайкальских крепостях, расположенных вблизи или на пограничных линиях, появились артиллерийские коман-
ды
Инициатива В. В. Якоби привела к реструктуризации регулярных войск, находившихся в Анадырско-Охотско-Камчатском крае. С начала 1730-х гг. там оперировала Анадырская партия, созданная для подчинения чукчей и коряков. До конца 1740-х гг.
она состояла в основном из казаков, а затем, как упоминалось, стала усиленно пополняться офицерами и солдатами. В 1751– 1753 гг. таковых в ней числилось от 150 до 200 чел. (из Тобольского, Енисейского и Якутского пехотных полков и Новоучреж-денного пехотного батальона) 15. Кроме них, службу в Якутском крае несли чины Вологодского и Ширванского полков. В 1755 г. одновременно с реорганизацией Якутского полка и в связи с ней находившиеся в Анадырской партии, на Камчатке, в Якутском и Охотском ведомствах офицеры и солдаты, «коих по последним табелям показано»
610 чел., были исключены из списков своих частей, их предписывалось «числить особою Камчадальского и других отдаленных сибирских мест командою», которая впредь должна была комплектоваться рекрутами [Зуев, 2003. С. 97]. В результате этих нововведений был создан особый воинский контингент, общее начальство над которым вручалось командиру Анадырской партии. В 1759 г. в этом контингенте насчитывалось 513 чел., из них в Анадырском – 148, в Ямском – 133, камчатских – 121, в Охотском – 15, в Алазейском и колымских острогах – 96 чел. 16
В целом, к концу 1750-х гг., по нашим подсчетам, в сибирских регулярных частях значилось около 7 тыс. солдат и офицеров.
Во второй половине 1750-х гг. резко обострились отношения России с маньчжурским Цинским Китаем. Цинские войска, разгромив в 1755–1758 гг. Джунгарию, вышли к российским границам на Алтае. Горный Алтай превратился в объект территориального спора между Россией и Китаем. В это же время участились набеги монголов (хара-цириков) на русские пограничные караулы и деревни в Забайкалье, а российская сторона предприняла попытки организовать судоходство по Амуру (деятельность «Секретной Нерчинской экспедиции») и рассматривала планы аннексии Северной Монголии – Халхи, подчинявшейся Цинам. В 1756 г. «зенгорцы» (жители бывшей Джунгарии) в массовом порядке были приняты в российское подданство. В 1757 г. российское правительство отказалось выдать Китаю Амурсану, одного из организаторов освободительной борьбы джунгар против маньчжуров, а также своих новых подданных – джунгар и алтайцев. Цинское правительство в свою очередь отказало России в просьбе разрешить плавание русских судов по Амуру [Гуревич, 1983. С. 102–160; Моисеев, 1998. С. 149–168; Боронин, 2004. С. 162–167; Беспрозванных, 1986. С. 103– 108].
Угроза войны с Китаем заставила российские власти обратить внимание на «умножение войск на сибирской границе» и фортификационное укрепление самой границы. Еще в начале 1750-х гг. сибирский губернатор В. А. Мятлев предложил пере- вести в Забайкалье на постоянное жительство до 1 500 сибирских казаков с семьями. Сенат согласился было с этим и даже издал соответствующий указ (от 18 августа 1754 г.) 17. Однако вскоре данное решение было отменено. В 1756–1757 гг. упоминавшийся В. В. Якоби неоднократно подавал в вышестоящие инстанции проекты усиления обороны Забайкалья. Он предлагал построить крепости по Амуру, сформировать дополнительно к имевшимся в Забайкалье регулярным частям 4 пехотных полка и перевести с западно-сибирских линий 5 тыс. «выписных» казаков. На случай войны с Китаем Якоби считал необходимым иметь в Забайкалье 30 тыс. регулярного и 5 тыс. нерегулярного войска «с надлежащею артиллерией». Военная коллегия, затем Коллегия иностранных дел в 1757 г. поддержали проект Якоби. Сенат, заслушав мнения военного и внешнеполитического ведомств и согласившись в целом с увеличением войск на забайкальской границе, остановился на проекте сибирского губернатора Ф. И. Соймонова как более реальном и осуществимом. Ф. И. Соймонов в своем донесении в Сенат от 9 марта 1759 г. предлагал сформировать 4 конных ландмилицейских полка из «выписных» казаков, набранных из государственных крестьян Томского и Кузнецкого уездов, и один тысячный регулярный полк на базе 4 рот, взятых из полков, находившихся в Западной Сибири («армейских драгунских Луцкого и Олонецкого, да гарнизонных Сибирского и Новоучрежденного полков»), добавив к ним 400 иркутских и енисейских казаков, а если не хватит – то посадских и цеховых Енисейска и Иркутска. Полки должны были дислоцироваться вдоль забайкальской границы [Зуев, 1994. С. 26, 27; Быконя, 1985. С. 180, 181].
Семнадцатого октября 1760 г. Сенат утвердил проект Ф. И. Соймонова. В 1762 г. был сформирован и переведен в Забайкалье конный ландмилицейский полк, названный Якутским. Однако 18 февраля 1763 г. указом Сената формирование остальных полков было прекращено из-за отсутствия денежных средств и необходимых запасов провианта [Зуев, 1994. С. 27]. Но уже вскоре, 29 ноября 1763 г., Екатерина II согласилась с предложением Сената и Военной коллегии о формировании и переводе в Вос- точную Сибирь одного конного карабинерного и 5 пехотных полков. Местами их дислокации определялись Иркутск (3 пехотных полка), Селенгинск (2 пехотных полка) и Нерчинск (один конный полк) 18 [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 16. № 11979. С. 436]. В 1764 г. в исполнение намеченного были сформированы только два двухбатальонных пехотных полка – Томский и Селенгинский, а Якутский конный ландмилицейский преобразован в 10-ротный карабинерный. За год до этого из двух рот Тобольского пехотного полка и двух капральств Екатеринбургской стражи была создана Нерчинская заводская команда. Одновременно предпринимались меры по усилению вооруженных сил в Западной Сибири. В 1762 г. из одной драгунской роты Новоучрежденного полка и 4 пехотных рот Енисейского полка, находившихся в Колывано-Воскресенском горном округе, была учреждена Колывано-Воскресенская заводская команда (в 1763 г. 646 чел.), преобразованная в 1764 г. в горный батальон, имевший статус полевого. К 1765 г. на западно-сибирские линии из европейской части страны перевели три 12-ротных драгунских полка (в каждом – 10 рот драгун и две роты гренадер) – Троицкий (находился здесь уже с 1758 г.), Азовский и Ревельский. В 1764 г. Новоучрежденный полк переименовали в Колыванский, а драгунские полки из категории гарнизонных перевели в полевые. С 1763 г. в сибирских губернских городах для выполнения полицейско-караульных служб стали создаваться штатные губернские роты, а в прочих городах – уездные городовые команды, которые, однако, подчинялись не военным, а гражданским властям 19 [Висковатов, 1899. Ч. 4. С. 11, 15, 20, 33, 45; Быконя, 1985. С. 182, 183, 193; Зуев, 1994. С. 28; Пережогин, 2005. С. 91, 92; Андрейчук, 2011. С. 40].
Имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют определить общую численность регулярных войск в Сибири в результате их передислокаций в первой половине 1760-х гг. Удалось установить, что в Забайкалье в это время находилось около 3,5 тыс. регулярных чинов [Зуев, 1994. С. 28], в том числе (согласно полковым спи- скам за июнь 1763 г.) в Якутском конном полку – 833, в Якутском пехотном – 1 736 20. На крайнем Северо-Востоке Сибири к 1763 г. насчитывалось 412 чел. 21 В Западной Сибири на пограничных линиях, по данным Военной коллегии, в 1765 г. располагались 5 141 чел., в том числе на Колыва-но-Кузнецкой линии – 916, на Иртышской – 2 612, на Новой Сибирской – 1 613 22, все они принадлежали к драгунским полкам [Путинцев, 1891. С. 48]. По подсчетам А. Ю. Огурцова, численность гарнизонных войск (двух драгунских, Енисейского и Тобольского пехотных) и одного батальона к 1765 г. в Западной Сибири составляла 4 640 чел. [Огурцов, 1989. С. 22]. Но из Тобольского полка одна рота, по данным 1762 г., квартировала в Забайкалье в Аргунском остроге 23. Кроме того, в крепостях Ямышевской, Семипалатной, Омской, в городах Тобольске, Селенгинске, Иркутске и Нерчинске дислоцировались артиллерийские гарнизонные команды, в которых в 1762 г. насчитывалось 286 чинов 24.
К середине 1760-х гг. стало ясно, что реальной угрозы войны с Цинской империей не существует, хотя напряженные отношения с ней сохранялись. С этого же времени правительство в деле укрепления обороны сибирских границ сделало акцент на реорганизации сибирского казачества: началось формирование казачьих войск на юге Западной Сибири и в Забайкалье [История казачества…, 1995. С. 50–52]. В 1764 г. все пехотные гарнизонные полки в Сибири были расформированы и на их базе созданы пограничные гарнизонные батальоны: 1, 2 и 3-й Тобольские (дислокация: Тобольск, Тюмень, Тара), Томский (Томск, Красноярск, Нижнеудинск), Иркутский (Иркутск), 1-й и 2-й Селенгинские (Селенгинск, Удинский острог, Кударинская и Акшинская крепости). К 1770 г. из Сибири вывели Томский и Селенгинский полевые пехотные полки [Висковатов, 1899. Ч. 4. С. 33; Быконя, 1985. С. 183]. В 1764 г., в связи с прекращением военных действий с чукчами и коряками, была упразднена Анадырская партия, ее чи- ны к весне 1771 г. раскассированы по гарнизонам Гижигинской и Нижнеколымской крепостей 25.
С 1760-х гг. усилились набеги киргиз-кайсаков на приграничные русские и ясачные поселения в Западной Сибири и на Южном Урале. В 1771 г. около 170 тыс. волжских калмыков откочевали из российских пределов в Китай. С 1770-х гг. возникла угроза иностранного (английского и французского) проникновения на Камчатку и Чукотку. Все это вновь заставило правительство заняться укреплением границ. К этому времени костяк регулярных войск в Сибири составляли 7 гарнизонных батальонов, один карабинерный и 8 драгунских полков. Кроме того, имелось несколько артиллерийских рот и полурот, губернских и городовых команд, горные батальон и команда. Небольшие пехотные подразделения располагались в гарнизонах северо-восточных крепостей и острогов [Словцов, 1995. С. 567; Альбовский, 1902. С. 8].
В августе 1771 г. императрица Екатерина II утвердила проект Военной коллегии, согласно которому для оперативных действий на границе создавались легкие полевые команды – когорты, состоявшие каждая из пехоты (мушкетеры и егеря), кавалерии (драгуны) и артиллерии (всего 556 чинов по штатному расписанию). Кроме того, к имеющимся семи батальонам предполагалось добавить еще пять, разместив их в пограничных крепостях. В ходе реорганизации карабинерный и драгунские полки были частью раскассированы по когортам, частью по формируемым гарнизонным батальонам. Созданные семь когорт расположились в Селенгинске, Красноярске, Кузнецке, Омской, Ямышевской, Усть-Каменогорской и Св. Петра крепостях [Словцов, 1995. С. 568; Альбовский, 1902. С. 14–17; Быконя, 1985. С. 184; Андрейчук, 2011. С. 41]. В 1771 г. Нерчинская заводская команда была развернута в горный батальон 26.
Когорты были созданы не только в Сибири, но и в европейской части России. Однако русско-турецкая война 1768–1774 гг. и народное восстание под руководством Е. Пугачева 1773–1775 гг. показали низкую эффективность их применения в боевых действиях. В начале 1775 г. они были повсеместно ликвидированы. В Сибири из упраздненных когорт создали полевые егерские и мушкетерские батальоны и 10-эскадронный драгунский полк. Последний в 1777 г. был назван Сибирским [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 20. № 14562. С. 484, 485; Альбов-ский, 1902. С. 18; Бескровный, 1958. С. 312].
В результате преобразований и передислокаций 1760-х – первой половины 1770-х гг. состав сибирских регулярных частей заметно изменился, в нем стала преобладать пехота, тогда как кавалерия оказалась представлена всего одним полком. По данным середины 1780-х гг., в Западной Сибири на пограничных линиях располагались Сибирский драгунский полк (9 эскадронов), Петропавловский, Семипалатинский, Бийский и два Омских гарнизонных пехотных батальона, Семипалатинский и Колывано-Воскресенский мушкетерские полевые батальоны, гарнизонные артиллерийские команды (всего – 7 104 чел.) 27. Кроме того, на линиях стояли 1-й и 2-й Сибирские егерские батальоны. Три гарнизонных батальона дислоцировались в Тобольске, Тюмене и Таре, Колывано-Воскре-сенский горный батальон – в Барнауле. В Восточной Сибири в эти же годы числились: в Красноярском уезде – Томский гарнизонный батальон; в Иркутском уезде – Иркутский гарнизонный батальон и артиллерийская полурота (всего 815 чел.); в Забайкалье – один эскадрон Сибирского драгунского полка, Екатеринбургский полевой батальон, два Селенгинских гарнизонных батальона, две артиллерийские полуроты (всего – 2 468 чел., из них 986 – на границе по крепостям и караулам) 28 [Быконя, 1985. С. 186; Зуев, 1994. С. 34]. В Нерчинском горном округе стоял Нерчинский горный батальон. В Охотско-Камчатском крае по крепостям и острогам были распределены отдельные гарнизонные команды (626 чел.) 29. Помимо названных частей и подразделений в сибирских городах и уездах караульнополицейскую службу несли 25 штатных городовых рот и команд. Всего общая численность регулярных войск в Сибири в се- редине 1780-х гг. по приблизительной оценке составляла около 13,5 тыс. чел.
В конце 1786 г. началось формирование еще одного 10-эскадронного драгунского полка – Иркутского. В 1787 г. его эскадроны были размещены на Иртышской, Колыван-ской и Кузнецкой линиях, один эскадрон (перечисленный из Сибирского полка) стоял в Забайкалье. К 1790 г. полк был полностью укомплектован до штатной численности в 1 882 чел. [Альбовский, 1902. С. 35, 67, 70]. В 1785 г. в Западную Сибирь вновь был направлен и в 1786 г. дислоцирован на Пресногорьковской (Ново-Ишимской) линии Ширванский мушкетерский двухбатальонный полк [Столетие…, 1902. С. 206].
В конце XVIII в. в ходе военной реформы Павла I регулярные части в Сибири подверглись очередной реорганизации, меняя при этом свои состав, названия и штатную численность. В 1796–1797 гг. в Западной Сибири были сформированы Томский двухбатальонный мушкетерский и два егерских двухбатальонных полка (№ 19 и 20), а в Забайкалье – Селенгинский двухбатальонный мушкетерский полк. В 1797 г. все регулярные части, расположенные в Сибири, вошли в состав 12-й (Сибирской) инспекции. С января 1797 г. гарнизонные, а с октября 1798 г. полевые полки российской армии стали именоваться по фамилиям их полковых командиров. Одновременно сибирские гарнизонные батальоны формально были сведены в полки [Альбовский, 1902. С. 100; Материалы для истории…, 1896. С. 5–7; Виско-ватов, 1899. Ч. 7. С. 5–42; Столетие…, 1902. С. 302, 303; Андриевич, 1889. Ч. 1. С. 75, 76, 79, 80, 89; Леонов, Ульянов, 1995. С. 267, 278]. Это объединение выражалось в том, что у них появились полковые командиры. Но фактически каждый батальон оставался самостоятельной войсковой частью. В 1798– 1799 г. был сформирован однобатальонный гарнизонный полк, предназначенный для службы в Охотско-Камчатском крае [Вис-коватов, 1899. Ч. 7. С. 42] (в 1797 г. здесь в гарнизонных командах Охотска, Тауйского и Ямского острогов, Гижигинской и Ти-гильской крепостей, Большерецка, Верхне-и Нижнекамчатска, Петропавловского порта насчитывалось 345 регулярных чинов 30). В 1801 г. (уже при Александре I) объедине- ние части гарнизонных батальонов в полки было отменено, всем батальонам и полкам вернули «территориальные» наименования, а у егерских полков поменяли нумерацию (19-й стал 18-м, а 20-й – 19-м).
В начале XIX в. сибирские регулярные части дислоцировались по-прежнему преимущественно вдоль южно-сибирской границы. Их численность, по оценке С. В. Андрейчука, составляла 18 308 чел. [2010. С. 18]. В Западной Сибири располагались два 5-эскадронных полевых драгунских полка – Сибирский (на Пресногорьковской и Петропавловской пограничных дистанциях) и Иркутский (Ямышевская дистанция), три полевых мушкетерских полка (с 1802 г. – трехбатальонные) – Ширванский (Омская дистанция), Томский (Кузнецкая и Бийская дистанции) и Селенгинский (Усть-Каменогорская, Бийская и Бухтарминская дистанции), два полевых егерских (с 1802 г. трехбатальонных) полка – 18-й (Железин-ская дистанция) и 19-й (Пресногорьковская, Петропавловская и Ямышевская дистанции), один гарнизонный двухбатальонный полк – Тобольский (Тобольск), шесть гарнизонных батальонов – Тарский (Тара, в 1803 г. переведен в Томск и назван Томским), Омский (Омская крепость), Петропавловский (крепость Св. Петра), Семипалатинский (Семипалатная крепость), Же-лезинский (Железинская и Ямышевская крепости), Бийский (Бийская крепость и Кузнецк), а также 10 артиллерийских команд (по пограничным крепостям и редутам) и Колывано-Воскресенский горный батальон (с 1802 г. – горная команда; Барнаул). В Восточной Сибири находились три гарнизонных полка – трехбатальонный Иркутский (два батальона в Иркутске и один, бывший Томский, – в Нерчинске), двухбатальонный Селенгинский (Селенгинск) и однобатальонный Камчатский (Охотск, Нижнекамчатск и Удский острог; в 1803 г. полк понижен в статусе до батальона), пять артиллерийских команд (Красноярск, Се-ленгинск, Нерчинск, Иркутск, Петропавловский порт на Камчатке) и Нерчинский горный батальон (Нерчинск). Кроме того, в сибирских городах и уездах числились 33 инвалидные роты, 27 инвалидных команд, з з 31 33 городовые штатные роты и команды
[Материалы для истории…, 1896. С. 5; Аль-бовский, 1902. С. 99–106, 159; Висковатов, 1900. Ч. 10. С. 5, 10, 108–110; Путинцев, 1891. С. 84, 85; Андриевич, 1889. Ч. 1. С. 77, 80, 93, 94; Быконя, 1985. С. 51; Сгибнев, 1869. С. 45, 75, 77].
В 1806 г. в связи с неудачной войной с Францией последовало увеличение численности российской армии, в том числе за счет сибирских полевых частей. На формирование новых полков в европейской России они выделили до 30–40 % личного состава, а сами были пополнены рекрутами [Анд-риевич, 1889. Ч. 2. С. 104, 105; Андрейчук, 2010. С. 18]. В 1808 г. регулярные части, дислоцированные в Сибири, были сведены в 24-ю дивизию (с 1810 г. – 26-ю, с 1811 г. – 27-ю) [Висковатов, 1900. Ч. 10. С. 21; Анд-риевич, 1889. Ч. 2. С. 106]. В 1808–1811 гг. в преддверии ожидаемой новой войны с Францией из Сибири были выведены все полевые полки 32 [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 31. № 24331. С. 335, 336; Андриевич, 1889. Ч. 2. С. 107]. Там остались лишь гарнизонные части – Тобольский двухбатальонный, Омский трехбатальонный (сформирован в 1809–1810 гг.), Иркутский двухбатальонный (сокращен из трехбатальонного в 1809 г.), Селенгинский двухбатальонный полки, Же-лезинский, Бийский, Петропавловский, Семипалатинский, Томский и Камчатский (в 1812 г. расформирован) батальоны, Нерчинский горный батальон и Колывано-Воскре-сенская горная команда, шесть артиллерийских рот (дислоцированы подразделениями в Ямышевской, Усть-Каменогорской, Семипалатинской, Бийской, Св. Петра, Железин-ской, Омской, Кузнецкой крепостях, Тобольске, Иркутске, Селенгинске, Нерчинске и Петропавловском порту на Камчатке), инвалидные и штатные роты и команды [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 30. № 23988. С. 1272; Висковатов, 1900. Ч. 10. С. 111, 112, 116; Андриевич, 1889. Ч. 2. С. 6; Сгибнев, 1869. С. 77]. В 1816 г. названные части, а также сформированные три новых батальона – Усть-Каменогорский (на базе упраздненного Томского батальона), Томский и Тобольский (выделенные из упраздненного Тобольского полка) – вошли в состав 30-й дивизии образованного Сибирского отдель-
Сибирской инспекции); РГВИА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1258.
Ч. 1. Л. 11 об., 12.
ного корпуса внутренней стражи. К страже были причислены губернские и уездные штатные и инвалидные роты и команды, которые еще в 1811 г. перешли из гражданского в военное ведомство [ПСЗРИ-I, 1830. Т. 31. № 24486. С. 516; Т. 33. № 26426. С. 1013–1017; № 46453. С. 1042–1049; Вис-коватов, 1900. Ч. 10. С. 118, 137; Андриевич, 1889. Ч. 2. С. 106, 108, 109].
Обзор дислокации, состава и численности регулярных частей в Сибири на протяжении XVIII – начала XIX в. позволяет сделать следующие заключения. Регулярные части, вводимые в Сибирь или создаваемые на месте, располагались преимущественно вдоль южно-сибирской границы в целях усиления ее защиты. Однако в случае фронтального военного столкновения с азиатскими кочевниками или Китаем их было явно недостаточно для оборонительных действий, не говоря уже о наступательных. Даже во время наибольшего наращивания в Сибири вооруженных сил, к середине 1760-х гг., общая численность воинского контингента (с учетом казаков), расположенного вдоль границы, не превышала 30 тыс. чел. Протяженность же южносибирской границы от Урала до Амура составляла более 4 тыс. км. Регулярные части, среди которых преобладала пехота, были мало пригодны и для пограничной службы, в первую очередь для пресечения набегов кочевников – киргиз-кайсаков, джунгар, монголов. Даже кавалерия (драгуны и казаки) не успевала оперативно реагировать на набеги, пехота же вовсе была бесполезна [Gehrmann, Ogurcov, 1993]. Кроме того, многие военнослужащие занимались обеспечением своих частей продовольствием, фуражом, доставкой и починкой амуниции, различными хозяйственными делами, в том числе хлебопашеством. Регулярные чины несли также караульно-полицейскую службу в сибирских городах и острогах, а офицерский состав выполнял административнофискальные и судебные функции по отношению к местному населению. В силу этого значительная часть личного состава находилась не при полках и батальонах, а в длительных командировках в разных районах Сибири [Быконя, 1985. С. 188, 189; Дмитриев, 2009]. В систематических военных действиях регулярные подразделения, набранные из разных сибирских полков, принимали участие только во второй половине 1740-х – 1750-х гг. на крайнем Северо-Востоке Сибири – против чукчей и коряков [Зуев, 2009. С. 101–156].
На территории Сибири мы наблюдаем действие тех же тенденций, что были характерны для процессов военного строительства в масштабах всей страны. Это подтверждается теми изменениями, которые происходили с дислоцированными здесь воинскими частями в рамках неоднократно проводившихся реорганизаций вооруженных сил. Вопросы военной безопасности Сибири никогда не оставались без внимания местных и центральных властей, хотя они и не всегда располагали надлежащими ресурсами для их решения. В целом, по нашему мнению, можно говорить о том, что малочисленные регулярные части в Сибири реально выполняли функцию опорных точек государственного контроля над населением и территорией, прежде всего в приграничных районах, тем самым способствуя укреплению имперской политической системы. Не редкие чиновники и не сибирские казаки, которые в этнокультурном отношении смешивались с «инородцами», а солдаты и офицеры, одетые в мундиры, символизировали и олицетворяли присутствие в Азии Российской империи, они наглядно демонстрировали «азиатам» возможную российскую военную мощь. Это наше суждение носит предварительный и, возможно, дискуссионный характер. Но ясно одно: требуется развернутое и всестороннее изучение «армейской» темы на материалах Сибири, с акцентом на выявление той роли, которую сыграла регулярная армия в сибирском варианте империостроительства. Это, в свою очередь, позволит в полной мере проследить взаимосвязь развития армии как особого государственного института, с одной стороны, внутренней и внешней политики Российской империи – с другой.
Материалы для истории 41-го пехотного Селенгинского полка. С 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 г. Луцк, 1896 (репринт: СПб., 2008).
Международные отношения в Центральной Азии. XVII–XVIII вв. М., 1989. Кн. 1.
Менщиков В. В. Воинские ресурсы Южного Зауралья в середине XVIII в. // Земля Курганская. Курган, 1994. Вып. 7. С. 79–81.
Моисеев В. А. Россия и Джунгарское ханство в XVIII веке. Барнаул, 1998.
Огурцов А. Ю. Численность гарнизонных войск в Сибири до 1765 г. // Материалы XXVII Всесоюз. науч. студ. конф.: История / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 1989. С. 21–22.
Огурцов А. Ю. Штатная реформа 1736– 1737 гг. и служилые казаки Западной Сибири // Казаки Урала и Сибири в XVII–XX вв. Екатеринбург, 1993. С. 69–79.
Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.). Барнаул, 2005.
Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. 1730–1735 г. СПб., 2001.
[ Плескановский ]. Краткая история 39-го пехотного Томского е. и. в. эрцгерцога Людовика Виктора полка для нижних чинов. Варшава, 1887.
Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. М., 1867.
Полное собрание законов Российской империи: Собр. I (ПСЗРИ-I). СПб., 1830. Т. 9, 10, 20, 30, 31, 33.
Пузанов В. Д. Военно-административная система России в Южном Зауралье (конец XVI – начало XIX в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Курган, 1999. 25 с.
Пузанов В. Д. Строительство вооруженных сил на юге Зауралья (50-е гг. XVII – 20-е гг. XVIII вв.) // Зауралье в панораме веков. Курган, 2000. С. 50–75.
Пузанов В. Д. Военные факторы русской колонизации Западной Сибири (конец XVI – XVII в.). СПб., 2010.
Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска со времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. Омск, 1891.
Рабинович М. Д. Полки петровской армии 1698–1725: Краткий справочник. М., 1977.
Русско-китайские отношения в XVIII веке. М., 1990. Т. 2.
Сгибнев А. С. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке // Морской сб. СПб., 1869. Т. 103. № 7.
Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Новосибирск, 1995.
Соколовский М. М. Исторический очерк бывшего 12-го пехотного Сибирского резервного Барнаульского полка, ныне вошедшего в состав 44-го Сибирского стрелкового полка. 1711–1911. Барнаул, 1911.
Столетие Военного министерства. СПб., 1902. Т. 4: Главный штаб. Ч. 1, кн. 1.
Фабрика Ю. А. Сибирский щит (Становление сибирского воинства и военные деятели Сибири). Новосибирск, 2001.
|
Gehrmann U., Ogurcov A. Russlands Frontier in Westsibirien. Zur Geschichte der Linien-Kosaken im 18. Jahrhundert // Zeitschrift fur |
Geschichtswissenschaft. 1993. Bd. 41: Jahr-gang. № 5. S. 399-410. Материал поступил в редколлегию 08.09.2011 |
A. S. Zuev, A. V. Dmitriev
REGULAR ARMY TROOPS IN SIBERIA THROUGH 18TH AND START OF 19TH CENTURY: STRENGTH, PERSONNEL, STATIONING