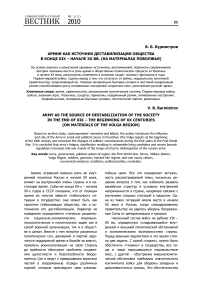Армия как источник дестабилизации общества в конце XIX - начале XX вв. (на материалах Поволжья)
Автор: Бурмистров Владимир Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа и осмысления архивных источников, воспоминаний, переписки современников автором показаны место и роль армии в общественно-политическом процессе в Поволжье в начале ХХ века, рассмотрены изменения в сознании солдат тыловых гарнизонов в годы Первой мировой войны. Сделан вывод о том, что усталость от войны, недовольство политикой правительства, продолжающей её, тяжелые материально-бытовые условия и жестокий казарменный режим способствовали росту антивоенных настроений солдатских масс, разложению русской армии.
Армия, правительство, региональная политическая система, первая мировая война, войска, военный округ, поволжье, солдаты, гарнизоны, казарменный режим, антивоенные настроения, продовольствие, материально-бытовые условия, политические партии, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/14113536
IDR: 14113536
Текст научной статьи Армия как источник дестабилизации общества в конце XIX - начале XX вв. (на материалах Поволжья)
Армия, игравшая важную роль во внутренней политике России в начале XX века, влияет на внутреннюю жизнь страны и в настоящее время. События конца 80-х – начала 90-х годов в СССР показали, что от позиции армии во многом зависит стабильность ситуации в государстве: она может быть как гарантом стабилизации общества, так и источником его дестабилизации. Характер ее поведения определяется степенью решаемости социально-экономических, моральнопсихологических и политических задач как в самой военной организации, так и в обществе в целом. Вместе с тем попытки различных политических сил, движений и партий заручиться поддержкой армии в борьбе за власть, привлечь военнослужащих на свою сторону до крайности обостряют проблему сохранения целостности и боеспособности Вооруженных Сил и ведут к превращению воинских частей в вооруженные отряды различных партий, которые преследуют свои узкопар- тийные цели. Все это определяет актуальность рассматриваемой темы, поскольку решение вопроса о том, как избежать развала армейских структур в условиях внутренней напряженности в стране, напрямую связано с изучением сходных ситуаций в прошлом. Одна из таких ситуаций имела место в начале XX века в России, когда самодержавному правительству не удалось уберечь Вооруженные Силы от деморализации и кризиса.
Численный состав войск на рубеже XIX – XX вв. определялся складывающейся внутренней и внешней политической обстановкой и экономическими возможностями страны. Перед военным ведомством в это время стояли две задачи. С одной стороны, нужно было обеспечить «тишину» в государстве, все чаще и чаще нарушавшуюся недовольством масс, с другой – обострение внешнеполитической обстановки требовало значительного контингента войск для обороны западных и дальневосточных границ. Эти обстоятельства определили высокий уровень численности войск начала XX века.
По данным Всеподданнейших отчётов Военного министерства, численный состав войск в 1905 году составлял 1 032 136 рядовых и 32 879 генералов и офицеров [1]. По территории и численности войск одним из крупнейших тыловых военных округов был Казанский военный округ (образованный в 1884 году). Его гарнизоны дислоцировались в пределах 10 губерний – Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбургской, Астраханской, Саратовской, Самарской, Симбирской и Пензенской и двух областей – Уральской и Тургайской [2].
Исходя из военно-политических и квартирных соображений, воинские части дислоцировались, как правило, в промышленных центрах, губернских и уездных городах. Важнейшей из причин этому послужили неоднократные обращения губернаторов в Министерство внутренних дел с ходатайствами «о расквартировании в некоторых пунктах вверенных им губерний воинских частей в целях охранения общественного порядка и спокойствия» и главным образом для подавления возникающих беспорядков в среде крестьян и рабочих [3, л. 1].
Учитывая эти обращения губернаторов, в 1902 году была образована комиссия из представителей министерств – военного и внутренних дел для обсуждения вопросов о некотором изменении существующей дислокации войск в зависимости от назревших потребностей по охранению общественного порядка и спокойствия.
В секретном сообщении Департамента полиции говорилось: «Рассмотрев заявления губернаторов, а равно настоящее положение вопроса об обеспечении спокойствия там, где замечается особое брожение среди населения, означенная комиссия признала необходимым в ближайшем будущем принять меры к обеспечению соответствующей вооруженной силой некоторых районов империи» [3, л. 1].
В соответствии с рекомендациями вышеуказанной комиссии, количество войск, дислоцирующихся в пределах губерний, входящих в состав Казанского военного округа, резко возрастает.
Так, по отношению к Симбирской губернии комиссия признала желательной нижеследующую дислокацию развертываемых бригад: 59-я резервная бригада. Управление бригады – Симбирск или Казань; 233-й резервный Сурский полк. Штаб и 1-й батальон – г. Симбирск; 234 резервный Сызранский полк. Штаб и 1-й батальон – г. Симбирск; 2-й батальон – г. Алатырь [3, л. 2].
В самой Казани находился центр Казанского военного округа, и численность гарнизона в 1905 году была доведена до 5,5 тысяч человек (4 батальона пехоты действительной службы – 1490-2080 чел. 7-й и 8-й батальоны временных запасных – 2960 чел. Команда артиллерийского склада – 300-400 чел. Команда служащих военного госпиталя и команда интендантского склада и управления – 600700 чел. Две сотни 7-го Уральского казачьего полка – 200 чел.) [4]. Большое количество войск находилось и в других губерниях Поволжья.
В лице Казанского военного округа император и его правительство всегда желали видеть верную и надежную опору. В некоторых документах дофевральского периода этот округ именуется «оплотом порядка в империи». Да иначе и не могло быть. Приволжский и Приуральский край издавна слыли «бунтарскими». Именно отсюда потрясали основы самодержавия Разин и Пугачев. Именно здесь произошло знаменитое Безд-нинское восстание крестьян.
Поражение в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг. и, как следствие этого, снижение морального духа русского воинства, Первая русская революция 1905 – 1907 гг., события которой определенным образом повлияли и на вооруженные силы, поставили перед самодержавным правительством ряд широкомасштабных задач. Одна из них – принятие неотложных мер для защиты армии от разложения. Только осилив эту задачу, можно было надеяться на то, что самодержавие в достаточной степени защищено, так как, по выражению председателя Совета министров С. Ю. Витте, Российская империя «в сущности, держалась… не только преимущественно, но исключительно своей армией» [5, с. 380]. Армия была силой, способной противостоять внешнему врагу, но она являлась и одной из главных опор самодержавия в борьбе с врагом внутренним, и расстройство ее, как заявлял военный министр А. Ф. Редигер, угрожало «самыми ужасными последствиями» [6, с. 103].
В годы Первой мировой войны, особенно в 1917 году, общественно-политическая обстановка в Поволжье и в Приуралье ещё больше обострилась, что заставило правительство, опасавшееся народных возмущений, увеличить воинский контингент в регионе. В начале 1917 года на территориях губерний, входивших в состав округа, дислоцировалось 13 запасных пехотных бригад, включавших в себя 81 пехотный запасной полк (численность каждого полка – от 5 до 13 500 человек). Численность военнослужащих превышала норму, установленную штатом военного времени, в отношении офицерского состава в 3 раза, а в отношении солдатского состава – почти в 2 раза [2, c. 15].
В большинстве губернских городов численность войск была почти такой же, как численность всего гражданского населения: Саратов – 154,5 тыс. гражданского населения и 115-130 тыс. войск; Самара – 143,8 тыс. всего населения и 84-100 тыс. солдат и офицеров; Пенза – 78,9 тыс. гражданских и 70-90 тыс. военных. В Симбирске на 55,2 тыс. гражданского населения приходилось 70-90 тыс. войск! Кроме Симбирска, численность войск превышала количественный состав гражданского населения в таких городах, как Кузнецк и Саранск [7, с. 210]. Остальные гарнизоны губернских центров и некоторых уездных городов насчитывали 25-30 тыс. солдат и офицеров [8, с. 13].
Гражданские власти, если не формально, то фактически еще и до начала Первой мировой войны находились под влиянием окружного командования, с началом которой их деятельность была всецело подчинена интересам войны и проходила под непосредственным руководством военных властей.
На Казанский военный округ, помимо подавления революционных настроений, была возложена роль одного из крупнейших поставщиков пушечного мяса. Для наглядности можно привести сведения из доклада командующего округом Сандецкого генеральному штабу от 17 октября 1915 года № 2175, в котором значится, что мобилизационный отдел генерального штаба предъявил к округу требование о непременной высылке на фронт в течение сентября, октября и ноября 1915 года по 800 маршевых рот (200 000 человек) в месяц; за тот же период надлежало выслать в другие округа до 40 000 человек [2, с. 21].
Однако необходимо иметь в виду тот факт, что в годы Первой мировой войны происходят серьёзные изменения в сознании солдат русской армии. Анализ и осмысление архивных источников, воспоминаний, переписки современников событий начала ХХ века позволили автору сделать вывод о том, что, с одной стороны, усталость от войны, недовольство политикой правительства, продолжающей её, способствовали росту антивоенных настроений солдатских масс, разложению русской армии.
Вот как оценивал состояние армии близко стоявший к военному делу председатель Государственной думы М. В. Родзянко: «Справедливости требует указать, что симптомы разложения армии были заметны и чувствовались уже во второй год войны. Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой 25 % в среднем, и, к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следовавшие в поездах, останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона, за исключением начальника его, прапорщиков и других офицеров» [9, с. 90].
Такое же положение дел было характерно и для войск Казанского военного округа. В статье невозможно перечислить все факты дезертирства из армии. Сошлемся лишь на один наиболее характерный случай массового оставления воинской части. В сентябре 1915 года из Симбирской дружины ополчения, находившейся в Ашхабаде, было направлено 300 солдат в 158-й пехотный запасной батальон. Из этих 300 солдат к месту назначения прибыли всего 3 человека при 5 конвойных. Остальные 297 человек сбежали, из них 166 человек прибыли в Ардатов-ский уезд. Командир батальона просил Арда-товского исправника принять меры к розыску и возвращению в батальон солдат, самовольно оставивших службу [10, с. 62].
С другой стороны, жестокий казарменный режим, рукоприкладство, массовые порки и издевательства офицеров, голод, тяжелые материально-бытовые условия глубоко возмущали солдат, служили одной из предпосылок формирования их революционного поведения в годы Первой мировой войны.
Военные поражения, неоправданная гибель личного состава ещё больше усиливали ненависть солдатских масс к самодержавному строю. Впоследствии бывший монархист В. В. Шульгин вспоминал об этом: «Ужасный счёт, по которому каждый выведенный из строя противник обходился нам за счёт гибели двух солдат, показывает, как щедро расходовалось русское пушечное мясо. Один этот счёт – приговор правительству и его военному министру… Приговор в настоящем и будущем. Приговор всем нам, всему правящему и не правящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстала от соседей» [11, с. 93].
Недостаток вооружения, боеприпасов, появление на фронте безоружных людей, ожидавших винтовок от убитых, вызывало огромное возмущение у солдат. В войсках росло убеждение, что жертвы на войне приносятся бессмысленно, напрасно. Солдаты проклинали войну и все ее ужасы.
Растущее недовольство в армии войной и самодержавным строем на почве поражений на фронте и начавшейся хозяйственной разрухи в тылу благоприятствовало восприятию солдатами агитации и пропаганды леворадикальных политических партий. Агитация и пропаганда леворадикалов затрагивала наиболее жгучие вопросы солдатской жизни. Недостаток боеприпасов и продовольствия, казнокрадство, телесные наказания солдат, грубость и произвол военного начальства, тяжелое положение солдатских жен и детей – все это становилось темой для бесед агитаторов. Причем необходимо отметить, что вся эта работа оказывала воздействие главным образом на тыловые части, гарнизоны и запасные батальоны крупных центров. Разнородный, с преобладанием крестьянского, социальный, национальный и возрастной состав гарнизонов стал благодатной почвой для усвоения революционных, крайне радикальных идей социал-демократов, социалистов-революционеров, анархистов и национальных партий.
Реализуя свою программу демократизации армии, социалисты еще задолго до февраля 1917 года планомерно развенчивали авторитет командования и правительства в глазах солдат, критикуя их деятельность, «ведущую страну к гибели». Есть все основания считать, что именно под воздействием ужасов войны, с одной стороны, и нелегальной работы в армейской среде революционной социал-демократии – с другой, началось разложение армии. Оценивая впоследствии «результаты» этой работы, А. И. Деникин писал: «Революционная демократия… поражала беспощадно самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще непоколебимыми: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было и этого не стало» [12, с. 101].
В 1916 году революционное брожение в запасных частях еще больше возрастает. О настроениях солдат в большом Симбирском гарнизоне к лету 1916 года говорится в совершенно секретном донесении начальнику Губернского жандармского управления. Оказывается, в 96, 97 и 242-м пехотных запасных полках среди солдат идут разговоры о том, что «…начальство защищает хищников-купцов и потому заставляет солдат стрелять в толпу» и что «в толпу стрелять не следует, а наоборот, защищать народ…» [13, л. 62].
Такое же брожение, если судить по докладу полиции Самарскому губернатору, наблюдается осенью 1916 года в Самарском гарнизоне. «Брожение это началось между нижними чинами 4-го саперного батальона еще с лета… и таковое с каждым днем растет все больше и больше и не то что между чинами батальона, но это происходит и в других частях, как, например, между чинами 130-го и 133-го полка и в некоторых ротах; об этом уже известно фельдфебелям и если не принять вскоре меры... то это очень скоро может исполниться...» [14, л. 32].
В данном случае также не обошлось без революционной агитации. Третьяков, служивший до призыва в армию урядником в полиции, сообщал, что «…5 ноября утром на трамвае к саперам приезжала какая-то неизвестная женщина, которая говорила, что сегодня, т. е. 5 ноября, они начнут бунт...» [14, л. 32].
Солдатам, да и некоторым офицерам надоело выполнять полицейские функции.
Поскольку случаи отказа солдат применять оружие против рабочих и крестьян в 1916 году множились, генерал Сандецкий направил губернаторам и начальникам гарнизонов телеграмму, в которой потребовал решительных действий вверенных им войск, которые вызываются не для того, чтобы быть зрителями происходящих беспорядков. Здесь же определялись и меры в отношении нижних чинов, проявивших пассивность при подавлении беспорядков или оказавшихся их участниками, – предание военно-полевому суду с приведением приговора в исполнение в тот же день [3, ф. 855, оп. 1, д. 1314, л. 3].
Однако никакими мерами и санкциями нельзя было остановить разложение армии, которое усиливалось все больше, чем дольше затягивалась война. Стремясь подавить назревавшую революцию, правительство, местные власти пытались опереться на солдатские штыки, но безуспешно. Солдаты, испытавшие на себе все ужасы войны, познавшие до конца все прелести палочной дисциплины, порку, истязания и т. д., не были расположены к усмирению забастовок и восстаний. Наоборот, они сами бунтовали, протестуя против чуждой им войны, против своего бесправия и унижений. Росло неповиновение офицерам, участились отказы от исполнения приказаний, дезертирство и самовольные отлучки. Солдатская казарма постепенно становилась очагом революции.
Нельзя, конечно, утверждать, что отрицательное отношение солдат к войне и самодержавию было во всех случаях идейно осознанным, но тем не менее к началу 1917 года недовольство солдатских масс достигло наибольшей остроты, антивоенные настроения охватили всю армию. В условиях глубокого экономического, политического кризиса, кризиса самосознания, ломки привычных стереотипов поведения и традиционной системы управления гарнизоны Поволжья как составная часть общества становились все более революционизированы и неуправляемы, подвержены взаимоисключающим тенденциям и восприимчивы к радикальной агитации. Из лозунгов социалистов-радикалов солдаты взяли универсальную формулу – крушения «эксплуататорского» режима – сторонника войны. Даже со свержением монархии данная формула спонтанной военной оппозиции не потеряла актуальности. Солдаты активно разыгрывали её вплоть до Гражданской войны 1918 года, направляя уже по собственному усмотрению.
Основными уроками, которые можно и нужно извлечь из исторического опыта роли и характера действий армии в региональной политической системе в конце XIX – начале XX века, могут быть следующие. Прежде все- го, армия как один из основных стабилизирующих факторов современного общества не должна испытывать чувства неудовлетворенности существующим положением: это касается и оснащения ее современными видами оружия и боевой техники, и возможности проведения полноценной боевой учебы, и материально-технического обеспечения, и социальной защищенности военнослужащих. Армия должна чувствовать собственную значимость при решении вопросов государственного значения, а это возможно при условии адекватной оценки этого института государством в лице всех его, без исключения, структур. Критика недостатков должна быть профессиональной и конструктивной.
Политическим партиям и движениям, учитывая невозможность изоляции армии от политической жизни общества и считая армию инструментарием Российского государства, необходимо исключить ее из объектов своего политического воздействия. Не допускать создания в Вооруженных Силах параллельных властных и общественных структур, ибо, как показывает опыт 1917 года, в различных комитетах число воинских чинов, в большинстве случаев оторванных от своего прямого дела, составляло около пяти корпусов и обходилось казне в 1 млн 250 тыс. рублей в месяц [15]. Обращение к историческому опыту взаимоотношения армии и политических сил, объективный анализ причин и факторов разложения русской армии в 1917 году помогут избежать многих ошибок в строительстве современных Вооруженных Сил РФ, точнее определить ее положение на переломном этапе развития российского общества.
-
1. Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX века. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 238 с.
-
2. Ежов Н. Военная Казань в 1917 году (краткий очерк). Изд-е второе. Казань, 1957. 86 с.
-
3. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 7. Д. 182.
-
4. Знаменский Н. Военная организация при Казанском комитете РСДРП и революционное движение в войсках Казанского военного округа в 1905 – 1907 гг. Казань, 1926. 93 с.
-
5. Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. 396 с.
-
6. Розенблюм К. Методы борьбы с революционным движением в старой армии в 1905 – 1906 гг. // Война и революция. 1928. Кн. 5. 237 с.
-
7. Морозов С. Д. Социально-классовый состав населения Поволжья в период империализма: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1986. 246 с.
-
8. Ионенко И. М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть Советов (по материалам Поволжья и Урала). Казань, 1976. 190 с.
-
9. Медведев Е. И. Установление и упрочение советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958. 636 с.
-
10. Дорожкин М. В. Установление советской власти в Мордовии. Саранск, 1957. 302 с.
-
11. Яковлев Н. 1 августа 1914 года. М., 1974. 240 с.
-
12. Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991. 519 с.
-
13. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 7695. Оп. 3. Д. 9.
-
14. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792.
-
15. Подсчитано автором по РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 72.
Список литературы Армия как источник дестабилизации общества в конце XIX - начале XX вв. (на материалах Поволжья)
- Бескровный Л. Г. Армия и флот России в начале XX века. Очерки военно-экономического потенциала. М., 1986. 238 с.
- Ежов Н. Военная Казань в 1917 году (краткий очерк). Изд-е второе. Казань, 1957. 86 с.
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 7. Д. 182.
- Знаменский Н. Военная организация при Казанском комитете РСДРП и революционное движение в войсках Казанского военного округа в 1905 -1907 гг. Казань, 1926. 93 с.
- Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. 396 с.
- Розенблюм К. Методы борьбы с революционным движением в старой армии в 1905 -1906 гг.//Война и революция. 1928. Кн. 5. 237 с.
- Морозов С. Д. Социально-классовый состав населения Поволжья в период империализма: дис. … канд. ист. наук. Казань, 1986. 246 с.
- Ионенко И. М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть Советов (по материалам Поволжья и Урала). Казань, 1976. 190 с.
- Медведев Е. И. Установление и упрочение советской власти на Средней Волге. Куйбышев, 1958. 636 с.
- Дорожкин М. В. Установление советской власти в Мордовии. Саранск, 1957. 302 с.
- Яковлев Н. 1 августа 1914 года. М., 1974. 240 с.
- Деникин А. И. Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. М., 1991. 519 с.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 7695. Оп. 3. Д. 9.
- Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 3. Оп. 233. Д. 3792.
- Подсчитано автором по РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 72.