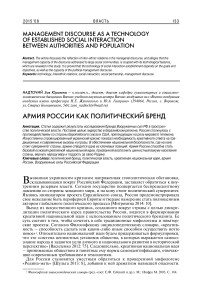Армия России как политический бренд
Автор: Надточий Зоя Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит результаты исследования бренда Вооруженных сил РФ в пространстве политической власти. Поставив целью лидерство в Eвразийском регионе, Россия столкнулась с противодействием со стороны Европейского союза и США, претендующих на роль мирового гегемона. Искусственно спровоцированный украинский кризис показал необходимость креативного ответа на традиционные и современные вызовы и угрозы. В обеспечении национальной безопасности, где на кону стоит суверенитет страны, армии отводится одна из ключевых позиций. Армия России способна стать базовой основой креативной национальной идеи, призванной восполнить ценностный вакуум населения страны, вернуть народу веру и гордость за свою Родину.
Политический бренд, политическая власть, креативная национальная идея, армия России, вооруженные силы российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/170168046
IDR: 170168046
Текст научной статьи Армия России как политический бренд
В ызванная украинским кризисом напряженная геополитическая обстановка, складывающаяся вокруг Российской Федерации, заставляет обратиться к внутренним резервам власти. Сегодня государство подвергается беспрецедентному давлению со стороны западного мира, и на кону стоит политический суверенитет. Являясь инициатором проекта Евразийского союза, Россия продемонстрировала свое нежелание быть периферией Европы и твердое намерение стать полноценным актором глобального политического процесса [Митрохина 2014: 10].
Выход из искусственного кризиса, созданного вокруг страны с целью дискредитации политического курса правительства России, видится в формировании креативной национальной идеи с использованием политического брендинга. Ее суть состоит в том, чтобы сочетать в себе традиционные мифологемы и новаторские проекты. Согласно Философскому энциклопедическому словарю, «креативность – способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто новое» 1 . Относительно национальной идеи будем придерживаться формулировки, что это «система ценностных установок общества, в которых выражается самосознание народа и задаются цели личного и национального развития в исторической перспективе» [Василенко 2012: 75]. Следовательно, креативная национальная идея – принимаемые обществом и понятные ему нормы самоидентификации, отвечающие современным требованиям и технологиям.
Для России становится уместным обратиться к проверенной мифологеме «Родина-мать» [Шульга 2013: 8], добавив к ней драматизм нависшей опасности.
Наполеон и Гитлер уже приходили к нам отнюдь не с дружественными намерениями, оставив после себя горе и разруху, память о которых составляет значимую часть культурного наследия. Европейская агрессия тогда сплотила российское общество в едином патриотическом порыве.
Жесткая риторика правящего истеблишмента США по отношению к России уже открыто торпедируется отечественными политиками. Российская политическая элита настаивает на многополярности как стратегии мирового развития, заявляя о бесперспективности моноцентричной глобализации [Попов, Юртаев 2014: 126]. Американская мечта рискует аннигилировать от перегрузки утопическими обязательствами перед своими подражателями. Военный бюджет США, составляющий на 2015 г. 577 млрд долл. 1 , демонстрирует реальную стоимость демократического мироустройства по американскому образцу.
Впервые после распада СССР перед его правопреемницей – Российской Федерацией – стоит задача возродить дух величия российской нации. Такой опыт уже наработан немцами, которые после поражения в Первой мировой войне распространяли в армии и народе произведения И.Г. Фихте с целью возродить немецкое государство [Василенко 2012: 78]. Пространство власти в информационном обществе может эффективно функционировать, только апеллируя к высокому престижу ценностей и принципов населения, взывающих к патриотизму и гордости за свою Родину.
Формируемые ценности креативной национальной идеи должны опираться на понятие достаточности власти [Чернышов 2014: 43] с позиции национальногосударственной безопасности. Речь идет не просто об административном ресурсе воздействия на население, а о долгосрочной имиджевой стратегии с добровольной ретрансляцией создаваемых стереотипов. Социальные сети и видеоканалы способствуют мгновенному распространению PR- продукта, заказанного властной элитой для продвижения своего политического курса с целью его широкой поддержки в обществе.
Ценность самой власти в социуме базируется на производимых ею созидательных идеях [Чернышов 2014: 42]. Такой неоспариваемой святыней в современном российском обществе является победа СССР в Великой Отечественной войне. Массовость «Бессмертного полка», прошедшего в день 70-летия Победы, показала социальное противодействие западной кампании по уничижению советских солдат. Так, А.В. Золов, рассматривая западную историографию, посвященную Красной армии в годы Великой Отечественной войны, отмечает, что для европейских исследователей «это безобразная дикая орда, не имеющая представления о дисциплине и порядке» [Золов 2013: 74]. С помощью исторических параллелей происходит дискредитация и современной наследницы победных традиций – российской армии.
В свое время генерал М. Скобелев писал: «…в России есть только одна организованная сила – армия, и в ее руках судьба России» [Какая армия… 1999: 244]. Армия хранит в себе консервативные представления о семейных и общечеловеческих ценностях, активно устраняемые или деформируемые в западном мире. Совершенно очевидно, что в качестве противовеса заявлениям западных политиков (президента США Б. Обамы, канцлера ФРГ А. Меркель) 2 о грозящей миру опасности со стороны Российской Федерации правящая элита выставляет проверенные временем образы.
Однако в информационном обществе предпочтение отдается уже не институтам и нормам, а действующим лицам и их дискурсам [Герасимова 2009: 60]. Именно поэтому перевооружение армии тесно связано с качественным изменением облика Вооруженных сил РФ. Благодаря присоединению в 2014 г. Крыма к России население поверило, что отечественные военнослужащие не хуже американских способны решать задачи обеспечения национальной безопасности. Обновленная
Военная доктрина от 26 декабря 2014 г. подчеркнула «приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера» 1 . Высокий рейтинг отразил рост доверия к министру обороны генералу армии С.К. Шойгу и президенту – Верховному главнокомандующему В.В. Путину 2 . Сегодня можно уверенно констатировать, что «битва идеологий сменилась битвой имиджей» [Василенко 2014: 13].
Для современной России приоритетом становится не выбор особого пути, а развитие политических и экономических отношений с миром на взаимной основе, уважение своей культуры и традиций. После распада СССР элита (политическая, интеллектуальная, культурная) стремилась копировать западную модель развития, но с объявлением открытой информационной войны оказалось, что основная масса населения не готова поддерживать чуждые ценности и ориентиры. Нужно было присмотреться к своим мифологемам и историческому опыту, указав, что у страны есть собственные укоренившиеся идеологические резервы. Обращение к истории началось через героическое прошлое русской армии.
С одной стороны, государство претворяет в жизнь концепцию технонационализма, т.е. независимости от внешних производителей военной техники [Barry 2001: 44-47]. Данный термин был введен в оборот Марком Эламом по отношению к США и Великобритании, но он применим и к политическим реалиям современной России. Отечественное оружие должно стать конкурентоспособным на рынке и лидером в обеспечении безопасности. Так, на параде Победы 9 мая 2015 г. была продемонстрирована бронетехника нового поколения «Армата». Внимание средств массовой информации акцентировалось на независимых технологиях, что вызвало интерес зарубежных специалистов – как возможных покупателей, так и потенциальных противников 3 .
С другой стороны, целенаправленно создается политический бренд «Армия России», под которым в контексте данной работы понимаются исключительно Вооруженные силы РФ. В современном обществе армия как инструмент политики – это не просто искусство войны, но и способность к грамотной репрезентации. Имидж-технологии по своим результатам можно приравнять к новейшей военной технике. Еще Р. Никсон утверждал, что «один доллар, вложенный в информацию и PR, более ценен, чем десять долларов, вложенных в систему вооружений. Ведь последние вряд ли будут когда-нибудь употреблены, в то время как информация работает ежечасно и повсеместно» [Ольшанский 2003: 9]. Торговая марка «Армия России» представлена в военторгах, эмблемы доступны широкой публике, а словосочетание «вежливые люди» в медийном пространстве прочно срослось с военным ведомством, где брендом стали сами военнослужащие [Жукова 2010: 63].
Технология создания политического бренда сложна, т.к. предполагает включение оценочного образа власти. При критике правящих кругов, которые занимаются укреплением обороноспособности страны, оппозиции труднее отрицать сам факт необходимости защиты Родины. Властным структурам, чтобы антиципировать заявления о милитаризации государственной машины, необходимо делать акцент на динамике качественных показателей Вооруженных сил. Политический бренд армии универсален с точки зрения электоральных предпочтений граждан, потому что военнослужащие отстаивают конституционные интересы населения. Вообще психологический компонент термина «бренд» соотносится с понятием «социальная установка» [Володина 2008: 126]. Главной функциональной задачей полити- ческого бренда становится форма побуждения человека к действию или бездействию, которая оказывает влияние на социально-политическую систему в целом [Казимирчик 2014: 125].
Сегодня мифологемы чаще обращаются к рациональному сегменту сознания, ведь пресыщенного информацией современного человека надо убедить, а не заставить верить. Для выражения такого восприятия и появилось понятие бренда как стратегического успеха в завоевании симпатий конечного объекта воздействия. Его главная задача – создать максимально узнаваемый и положительный образ субъекта [Радушинский, Крылова 2010: 42-43]. Примером может служить широко растиражированная история с американским эсминцем «Дональд Кук» в Черном море 1 , которая вызвала в российском обществе всплеск гордости за отечественную военную технику и профессионализм военнослужащих.
Эффективность любой деятельности напрямую связана с проектированием, а создаваемый сегодня политический дизайн Вооруженных сил РФ представляет собой совокупность особенных дефиниций, формируемых на основе экспектаций широких слоев населения [Нежданов 2011: 99]. От кинопродукции с сомнительным юмором (сериал «Солдаты» и фильм «ДМБ») телевидение перешло к трансляции танкового биатлона и авиадартса, что способствует популяризации самих задач русского оружия, а не бытовых трудностей организации. В социальных сетях и на популярных интернет-видеоресурсах распространяется все больше клипов, посвященных превосходству российской армии, а не девиантному поведению «срочников». После Крымской кампании весной 2014 г. The New York Times сделала акцент не только на современной экипировке «вежливых людей», но и на качестве самих военнослужащих, которые были трезвы 2 . Армия России как политический бренд способна заполнить возникший 20 лет назад ценностный вакуум, связав происшедшие перемены с вековыми традициями. Таким образом, выполняется основная задача политического бренда в информационном обществе – оперативная реакция на изменение приоритетов населения [Казимирчик 2014: 125].
Армия России – бренд, который способен удовлетворить запросы всех слоев населения, от маргиналов до элиты. Его политический компонент призван решить проблему независимого выбора пути развития страны и не допустить ее превращения в сырьевой придаток «золотого миллиарда». Снова в сознание общества возвращается миф о том, что служба по призыву делает из юнца мужчину. С помощью дней «открытых дверей» в воинских частях, сопровождающихся концертом, популяризируется служба по контракту, растет набор курсантов в военные вузы. Армия России – это патриотизм, ответ на санкции, внешнее эстетическое выражение подрываемых консервативных ценностей. В той консциентальной войне, которая ведется США за мировую гегемонию, целью является суверенитет, в т.ч. и при принятии политических решений. Россия способна его защитить только при активном взаимодействии власти и армии, но особый профессионализм заключается в том, чтобы выполнить приказ без реального применения силы, а только демонстрируя ее мощь. Присоединение Крыма к России показало, что эта задача нам вполне по плечу.
Список литературы Армия России как политический бренд
- Василенко И.А. 2012. Имидж России: концепция национального брендинга. -Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Вып. 4. С. 66-78
- Василенко И.А. 2014. Имиджевая стратегия современной России. -Перспективы. 23.06. С. 1-16. Доступ: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=290229 (проверено 18.06.2015)
- Володина А.Н. 2008. К вопросу о психологическом механизме формирования «бренда». -Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Сер. Общественные и гуманитарные науки. № 73-1. С. 125-128
- Герасимова О.Ю. 2009. Дискурс власти в современном обществе. -Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Культурология. Вып. 15. № 42(180). С. 60-64
- Жукова П.И. 2010. Имиджевая стратегия России в области безопасности: постановка проблемы (на примере Министерства обороны Российской Федерации). -Вестник Военного университета. № 1(21). С. 60-65
- Золов А.В. 2013. Демонизация Красной армии как один из трендов западной историографии. -Слово.ру: Балтийский акцент. № 4. С. 65-80
- Казимирчик Л.В. 2014. Политический бренд в условиях медиатизации и виртуализации современной публичной политики. -Теория и практика общественного развития. Политические науки. № 13. С. 123-125
- Какая армия нужна России: взгляд из истории. 1999. -Российский военный сборник. Вып. 9. М.: Военный университет; Армия и общество. 335 с
- Митрохина Т.Н. 2014. Функциональность политических проектов: технологии VS идеологии? -Власть. № 10. С. 5-13
- Нежданов Д.В. 2011. Политический дизайн как инструмент политической борьбы. -Власть. № 10. С. 97-99
- Ольшанский Д.В. 2003. Политический PR. СПб.: Питер. 544 с
- Попов А.К., Юртаев В.И. 2014. Российский проект глобализации. -Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики) (под ред. Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой). В 2 т. М.: Директ-Медиа. Т. 1. С. 125-139
- Радушинский Д.А., Крылова Е.А. 2010. Основы идентичности инновационного бренда. -Проблемы перехода к инновационной экономике. № 2. С. 42-46
- Чернышов А.Г. 2014. Власть как ценность. -Власть. № 9. С. 42-49
- Шульга Н.В. 2013. Мифотворчество в средствах массовой информации. -Концепт. № 03 (март). С. 1-10. Доступ: http://e-koncept.ru/2013/13063.htm. (проверено 18.06.2015)
- Barry A. 2001. Political Machines: Governing a Technological Society. London: The Athione Press. 305 p