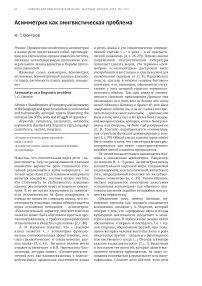Асимметрия как лингвистическая проблема
Автор: Осетров Игорь Германович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (13), 2015 года.
Бесплатный доступ
Проявления симметрии и асимметрии в языке-речи представляют собой противоречивую и гармонично организованную систему, наглядно иллюстрирующую проявление универсального закона единства и борьбы противоположностей.
Симметрия, асимметрия, антиномия, асимметричный дуализм языкового знака, системность языка, вариант, инвариант
Короткий адрес: https://sciup.org/14219609
IDR: 14219609
Текст научной статьи Асимметрия как лингвистическая проблема
« в языке нет ничего, кроме различий».
(Ф. де Соссюр)
«В языке нет ничего, кроме противопоставлений».
(Д. Болинджер)
Известно, что отличительная черта речи – вариативность. Будучи реализованной в некоем множестве вариантов речь становится способной реализовать и идею инварианта – но только через язык [1]. Основанием инварианта является тождество, поэтому можно считать, что статичность (и стабильность!) языковых единиц реализуется через отношение симметрии. В то же время вариативность проявляется исключительно на фоне инварианта, и отсюда не может не следовать вывод, что изменчивость языковых знаков обнаруживается через отношение неподобия – асимметрии. «Различительный характер лингвистического знака не может быть обусловлен простым противопоставлением, а требует одновременного установления и сходства и различия» [2, с. 40].
Л. М. Васильев полагает, что «…законом языка является <…> асимметрия функционально соотносительных фонетических, лексико-грамматических и семантических единиц языка» [3, с. 41]. Не менее важное место отводит асимметрии и Н.В. Черемисина-Ени-колопова, которая пишет: «Симметрия/асим-метрия есть два взаимосвязанных и взаимодействующих проявления системности языка и речи: языка в его симметрически упорядоченной статике <…> и речи – в её прагматической динамике» [4, с. 26-29]). Однако анализ современной лингвистической литературы позволяет сделать вывод, что термины «симметрия» и «асимметрия» достаточно часто употребляются не столько в классическом для языкознания (идущем от С. И. Карцевского) смысле, сколько в некоем «научно-бытовом» значении, что, возможно, объясняется отсутствием у этих понятий строгого терминологического объёма. Так, при анализе многочленного сложного предложения Причина эта заключалась не в том, что он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил её, это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы; … причина эта была в том, что у него в то время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана сего стороны, не была ещё разорвана ею (Л. Н. Толстой) подчёркивается «симметричная структура функции доминирующего союза» [5, с. 99]. Общий смысл комментария может быть сведён к тому, что симметрия может рассматриваться как некое «пространственное» подобие частей сложного предложения.
Не менее показательным оказываются подходы к пониманию асимметрии. Например, по мнению В. А. Гуреева, «асимметрия между концептуальной картиной мира, создаваемой индивидуумом, и онтологической, является по сути, непреодолимой в силу всё тех же субъективных моментов» [6, с. 57]. Таким образом, частым оказывается понимание дихотомии «симметрия-асимметрия» как обычного противопоставления подобия неподобию или равенства неравенству.
Объяснение тому, почему бытовое, понимание термина как такового оказывается возможным, находим у А. Мартине, который говорит о том, что «природные дары и плоды культурной деятельности предстают в некотором единении. В любом языке можно найти обозначение и первых и последних, т.е. с одной стороны, обозначение реалий, при появлении которых человек выступал лишь в роли свидетеля, с другой – плодов его рукотворного или умственного труда (…) Отсюда в словаре каждого языка два полюса». [7, с. 7]. Выделение и осознание тех понятий, которые даны в восприятии человеку-наблюдателю, не дают основания сомневаться в правильности их идентификации. Сложнее дело обстоит, если речь идёт о формировании значения термина на основе контекста человеком-творцом. Дискурсивная дискретность приводит иногда даже к тому, что содержание слова размывается, а сам «термин становится почти непригодным для точного обозначения понятия» [7, с. 7].
Одной из главных опасностей при попытке установить симметрию-асимметрию языковых фрагментов является то, что как различные ранговые единицы подчас рассматривают «вариант данной единицы и ту же самую единицу как инвариант» [8, с. 228]. Между тем варианты по отношению к одноимённым членам множества асимметричны, а по отношению к инварианту (классу множества) симметричны, поскольку основанием тождества является инвариант как свойство абстрактной общности, т.е. сами варианты ввиду принадлежности к общему классу противопоставляются не инварианту, а другим алломорфам.
Возвращаясь к многозначности терминов «симметрия» и «асимметрия», заметим, что большинство работ ограничивается признанием несомненной важности для современного языкознания классической работы С. И. Карцевского. Хорошим тоном считается упоминание об асимметричном устройстве языка, при этом нередко асимметрия признаётся собственно языковой универсалией. В то же время встречаются утверждения, что свойство симметрии связано с «правильной» организацией системы, с её «устроенностью». Б. А. Успенский замечает, что «(…) эффективность (или неэффективность) того или иного языка определённым образом связана с характеристиками правильности (регулярности и симметрии) и сложности его системы» [9, с. 6]. Однако не может вызывать сомнения и тот факт, что в той же мере об устроенности может свидетельствовать и асимметричная организация системы.
Ю. С. Степанов, говоря о семантике, обращает внимание на то, что она «распадается на две сферы: предметную, или денотатную, экстенсиональную, и сферу понятий, или смыслов, сигнификативную, интенсиональную. Обе сферы семантики в языке строятся довольно симметрично, причём интенсиональная, понятийная в значительной степени копирует в своей структуре экстенсиональную, предметную» [10, с. 12]. Дальнейший контекст позволяет говорить о том, что симметрия в данном случае рассматривается не как свойство целостной системы, состоящей из организованных автоморфичных объектов, а как два (и более) самостоятельных варианта, обладающие лишь некоторым параллелизмом. Впрочем, в основе некоторых явлений автор видит принципы симметрично-асимметричного устрой- ства, Так, например, рассматривая конверсную антонимию, Ю. С. Степанов считает её «материальным, содержательным аналогом абстрактного свойства предложения» благодаря её нахождению между тавтологией, с одной стороны, и противоречием – с другой. [10, с. 64].
В некотором смысле похожими свойствами обладает синонимия в синтаксисе. Так, одноимённое синтаксическое значение выражается разнообразными средствами и поэтому реализуется на разных языковых уровнях. Изоморфизм, например, обнаруживается как общее свойство отдельных лексем и синтаксических конструкций: так, близкие (подобные) значения могут выражать существительное с количественным значением (например, уйма, пропасть, толпа ) в сочетании с родительным падежом народу и генитивное предложение Народу! , сходно отражая количественную характеристику явления и квантитативную ситуацию. Одноименное модальное значение может выступать не только как инвариантное модальное значение, но и как модальность предиката, что обусловлено наличием в языке грамматических средств выражения модальности, а также специализированного разряда слов с грамматизованным лексическим – модальным – значением. Так, значение желательности может выступать как инвариантное модальное значение ( Я выпил бы чаю ) и как одно из значений модальности предиката ( Отец всё ещё мечтал разбогатеть. Мечтал стать купцом, хоть какой-нибудь гильдии! (Г. Жжёнов. Прожитое). Подобное наблюдается и при анализе значения некоторых других модальных значений, например, долженствования ( Трёх часов не прошло, опять таскай корм всему двору (И. А. Бунин) – Должны умолкнуть земные чувства (С. Аверинцев), возможности ( Узора милого не зачеркнуть! (О. Мандельштам) – Не в силах нас ни смех, ни грех свернуть с пути отважного (…) (И. Губерман); Не нагнать тебе бешеной тройки (Н. А. Некрасов) – Одну жрицу можно заменить другой – обряд останется тот же (В. Ходасевич. Брюсов); Лукавой бабы и в ступе не истолчёшь (пословица) – Но позвольте, я ведь имею право думать, что вы не меня, а себя уподобили мелкой монете (М. Горький. Жизнь Клима Самгина); желательности (… вот бы мать с отцом были бы живые (В. Шукшин. Чудик) – Я вам желаю добра (А. Грин Золотая цепь); побудительности ( Возьми любую жизнь своего поколения и читай, как книгу (М. Пришвин. Дневники) – Или прикажу взять его у вас (Б. Васильев. Дом, который построил Дед) и др.
Инвариантное модальное значение долженствования обнаруживается в инфинитивных предложениях, а также в структурах с императивом в переносном значении (Он заварил кашу, а я расхлебывай). Общей чертой названных конструкций, помимо модальности долженствования, является значение внев-ременности. В предложениях, в которых долженствование представлено как модальность предиката … Мне должно после долгой речи И погулять и отдохнуть; Докончу после как-нибудь (А. С. Пушкин, Евгений Онегин) долженствование находит выражение в грамматизованных лексических средствах, а темпоральное значение оказывается целиком зависимым от формы связки. Аналогично и соотношение средств выражения желательности (оптативности): инвариантная модальность может быть обозначена с помощью инфинитивных конструкций.
Таким образом, рассмотрение предложений со значениями долженствования, желательности, возможности//невозможности, побудительности и некоторых других как инвариантных модальных значений, с одной стороны, и как модальности предиката, с другой стороны, в качестве синтаксических синонимов, которое оправдано при функциональном подходе к синонимии, выглядит неудовлетворительным при структурном подходе к её описанию, так как основное грамматическое значение предложений, названных выше, не совпадает и в том, что первые из них представляют собой значения, которые в одних случаях являются составляющей основного признака предложения – предикативности, а в других – модальным значением, данным в номинации; и в том, что принципиально различаются темпоральные значения. Сказанное приводит нас к мысли, что требование тождества грамматического значения не позволяет признать синонимами предложения, в которых сопоставляются модальные значения ирреальности и модальность предиката, именно поэтому мы рассматриваем синонимику разновидностей и типов простого предложения в рамках каждого аспекта модальности автономно.
Другими словами, помимо синтаксической синонимии, существует то сходство модальной семантики, которая в некотором смысле схожа с наполнением понятия концепта. Однако использование терминологии когнитивной лингвистики нас не устраивает, так как с точки зрения синтаксиса выглядит абсолютно неуместным, в связи с чем нами используется неоднословная номинация «синтаксическая соотносительность».
Понятие «асимметрия» используется сегодня отнюдь не в том виде, в котором оно впервые было применено при изучении языковых явлений. Так, И. А. Ковтунова, анализируя соотношение между стихотворной и поэтиче- ской речью понимает асимметрию как различие в рамках подобного: «Можно думать, что асимметрия между стихотворной речью и поэтическим языком возникает тогда, когда языковая структура стихотворного текста не достигает уровня ритмизации, необходимого для того, чтобы стихотворная речь стала поэтическим языком» [11, с. 13]. Иными словами, если варианты подобны – это достаточное основание для того, чтобы считать их алломорфами; наличие любых различий между вариантами даёт основание считать их асимметричными.
Т. П. Ломтев, опирающийся на логический аппарат в анализе синтаксических явлений, совершенно отчётливо различает отношения симметричные, асимметричные и несимметричные. Первые два описываются через обратимость-необратимость трехчленных суждений aRc и cRa. В случае, когда при перестановке аргументов суждение остается истинным, имеет место отношение симметрии: Виктор познакомился с Мариной – Марина познакомилась с Виктором . Отношение асимметрии возникает, если перестановка влечет возникновение суждения, которое осознается как ложное: Волга длиннее Свияги – *Свияга длиннее Волги.
Подтверждение тому, что Т. П. Ломтев следует именно данному пониманию асимметрии, находим в одной из его работ, где он пишет: «Отношения между адресантом и адресатом являются несимметричными, если в этом отношении адресант и адресат не меняются своими ролями. Глагол рассказывать выражает такой информационный процесс, в котором одно лицо всегда остаётся адресантом, а другое адресатом (…). Глагол обсуждать выражает такой информационный процесс, в котором его участники взаимно обмениваются сведениями, каждый из которых попеременно является то говорящим, адресантом, то слушающим, адресатом, например, Он обсуждал с нами вопрос о дисциплине» [12, с. 221]. Комментируя эти слова, хотелось бы подчеркнуть, что в приведённом контексте при глаголе обсуждать, представляющем собой предикат социативной ситуации, симметричные перемены ролей возможны не всегда, поскольку субъекты ситуации обсуждения могут осознаваться не только как социально равноправные, но и как обладающие разной мерой ответственности за принятие решения. Поэтому должностное лицо, занимающее более высокое служебное положение, обсуждая вопрос о дисциплине с подчинёнными, «спускается» до их уровня и принуждает их к ситуации обсуждения. В этом случае употребление глагола обсуждать выглядит как эвфемизм. Важно отметить, что инициатива при обсуждении вопроса о дисциплине со стороны подчинённых может выглядеть как превышение полномочий и поэтому с точки зрения теории речевых актов использование этого глагола в речи влечёт иллокутивную неудачу. Таким образом, возможность перестроения конструкций с глаголом обсуждать имеет определённые ограничения, которые следует иметь в виду.
Синтаксическую интерпретацию асимметрии встречаем в работах П. А. Леканта: «(…) формы тождества и значение тождества асимметричны; формы тождества могут репрезентировать другое значение – неподобие, сходство. Это относится и к «предложениям тождества», и к знакам тождества» [13, с. 78]. В последующих работах П. А. Лекант продолжает развивать эту идею: «Рассмотрение закономерностей реализации высказывания должно исходить из принципиального тезиса об асимметрии формы и содержания предложения» [14, с. 176 – 177]. В основе этого понимания лежит идея о том, что асимметрия формулируется в терминах самих явлений, устанавливая зависимость объекта от выбора системы отсчёта при преобразованиях, соответствующих данной группе явлений. Исходным понятием асимметрии в этом случае являются лингвистическое представлении о целом и единичном (кстати, одна из гумбольдтовых антиномий), что подтверждается наблюдениями П. А. Леканта за примерами конкретного проявления асимметрии синтаксических единиц. При этом подчеркивается, что «все случаи осложнения простого предложения могут рассматриваться как проявление асимметрии, так как структура простого предложения используется для оформления двух высказываний, то есть содержательная сторона этих предложений сближается со сложными (полипредикативны-ми)» [13: 78]. Другими словами, семантические вариации и структурные разновидности осложненного предложения свидетельствуют об асимметризации, поэтому предложение как тип и высказывание как его речевая реализация являются асимметрично устроенными синтаксическими единицами.
Более частным проявлением асимметрии синтаксических знаков признаётся то, что «асимметрия (…) имеет место и при переосмыслении показателей отрицания» [13, с. 87]. Важным случаем асимметрии считается возникновение у высказывания коннотативных смыслов при включении высказывания в текст [13, с. 88].
Считаем полезным остановится подробнее на понимании асимметрии Г. А. Золотовой [15, с. 53], которая считает, что идея С. И. Карцев-ского об асимметричном дуализме языкового знака была использована «сторонниками традиционного синтаксического канона» для до- казательства «принципа несовпадения формы и содержания в предложении», в то время как сам учёный «имеет в виду прежде всего зону симметрии, совпадения основного значения и средства его выражения» [15, с. 53]. В представлении Г. А. Золотовой соотношение формы и содержания заключается в том, что «в зоне совпадения, симметрии – опорные пункты системы и гарантия её коммуникативной реализации, на периферии системы – асимметричные проявления, создающие дополнительные выразительные возможности системы и условия её эволюции». Однако вряд ли можно предполагать, что мысль, сформулированная С. И. Карцевским, столь замысловата и что термин «асимметричный» следует в его работах понимать как «симметричный». В то же время, очевидно, что Г. А. Золотова подчеркивает – как ключевую – не столько идею полевой структуры языкового знака, сколько его симметрично-асимметричную организацию.
Некоторые специалисты полагают, что перенесение Р. Якобсоном понятия оппозиции с фонологических на грамматические явления в основе имеет как раз концепцию асимметрии С. И. Карцевского [16]. Мы считаем, что хотя попытки искать идейного предшественника Р. Якобсона в лице С. И. Карцевского не совсем оправданы, тем не менее следует согласиться, что именно в его работах были сформулированы методологическая идея об универсальном характере бинаризма в языковой системе, столь востребованной сегодня в лингвистической науке. При этом бинарный принцип построения лингвистической теории влечёт рассуждения, заставляющие сделать вывод о продуктивности симметрично-асимметричных построений. Так, известно, что «два бинарных признака – скажем, X и Y – позволяют различать как раз четыре различные категории:
-
1 2 34
X + + ––
Y + – +–
[17: 181]. Схема, приведённая Л. Бэбби, наглядно демонстрирует, что первая и четвёртая категории симметричны, в то время как вторая и третья, не будучи с функциональной точки зрения тождественно организованными, во взаимных отношениях между собой должны оцениваться как асимметричные. Именно это свойство системы, состоящей из двух бинарных оппозиций (синонимии и омонимии) и было обнаружено С. И. Карцевским и названо в его работах асимметричным дуализмом языкового знака.
Таким образом, подход, когда асимметрия рассматривается исключительно как вид частный вид антиномии [18, с. 98 – 107; 19], не совсем правомерен, в том числе, применительно к той проблеме, которая сформулирована С. И. Карцевским как асимметрический дуализм языкового знака. Ведь если анализируемая учёным связь омонимии и синонимии заключается в том, что, будучи тождественными (симметричными) в одном отношении, они одновременно нетождественны (асимметричны) в другом, то это должно привести к выводу, что они, несомненно, подчинены закону симметрично-асимметричной организации систем. Отсюда следует, что организующим центром любой симметрии является отношение тождества, а асимметрии – частная антиномия.
В то же время поскольку тождество устанавливается через сопоставление субстанций (причём формальная логика считает допустимым существование различий внутри тождества), можно сделать вывод, что в любой симметрии заложены черты асимметрии. Таким образом, онтологически понятия симметрии и асимметрии представляют собой противоречивую и гармонично организованную целостную систему, наглядно иллюстрирующую проявление закона единства и борьбы противоположностей.
Список литературы Асимметрия как лингвистическая проблема
- Воробьёва Э.А. Понятие варианта и инварианта в современной лингвистической теории//Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». № 3. Электронный ресурс. URL: http://www.ncstu.ru.
- Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике. М.: Наука, 1990.
- Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М.: Высшая школа, 1990.
- Черемисина-Ениколопова Н.В. Симметрия/асимметрия как глубинный универсальный бинарный лингвистический и общенаучный закон//Принципы и методы исследования в филологии: конец ХХ века. СПб.:Ставрополь, 2001. (Научно-методический семинар «Textus». -Вып. 6.). C. 26-29.
- Бернарская Л.Д. Закономерности грамматического и смыслового членения многокомпонентного сложного предложения//Филологические науки, 2001, № 2, с. 94 -103.
- Гуреев В.А. Языковой эгоцентризм в новых парадигмах знания//Вопросы языкознания, 2004, № 2, с.57 -67.
- Мартине А. Континуум и дискретность//Вопросы языкознания, 1990, № 3, с. 5 -10.
- Вардуль И.Ф. Основы описательной лингвистики: Синтаксис и супрасинтаксис. М.: Наука, 1977.
- Успенский Б. А. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения «говорящего» (адресата) и «слушающего» (слушающего)//Б.А. Успенский. Избранные труды, т. III. Общее и славянское языкознание. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997, с. 5 -33.
- Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. М.: Наука, 1981.
- Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986.
- Ломтев Т.П. Конституенты предложения с глаголами речи/Т.П. Ломтев. Общее и русское языкознание. М.: Наука, 1976, с. 218 -239.
- Лекант П.А. К вопросу о категории тождества в русском языке//П.А. Лекант. Грамматические категории слова и предложения. М.: МГОУ, 2007, с. 77 -85.
- Лекант П.А. О коннотативных смыслах высказывания//П.А. Лекант. Грамматические категории слова и предложения. М.: МГОУ, 2007, с.176 -177.
- Золотова Г.А. Синтаксические основания коммуникативной лингвистики//Вопросы языкознания, 1988, № 4, с. 52 -58.
- Лейчик М.М. Язык и общество: Противоположные тенденции как импульс развития языка в современную эпоху//Вестник МАПРЯЛ. 2006, № 52. Электронный ресурс. URL: www.mapryal.org/files/vestnik52.rtf.
- Бэбби Л. К построению формальной теории «частей речи»//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная лингвистика. М.: Прогресс, 1985, с. 171 -203.
- Кунин А.В. Асимметрия в сфере фразеологии//Вопросы языкознания, 1988, с. 98 -107.
- Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос 2004. 280 с.