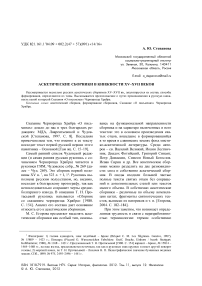Аскетические сборники в книжности XV–XVII веков
Автор: Степанова Анна Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается несколько русских аскетических сборников XV–XVII вв., анализируется их состав, способы формирования, определяются их типы. Высказывается предположение о путях проникновения в русскую книжностьоднойиз версий Сказания «О письменах» Черноризца Храбра.
Аскетический сборник, формирование сборников, сказание "о письменах" черноризца храбра
Короткий адрес: https://sciup.org/14737722
IDR: 14737722 | УДК: 821.161.1’04.09
Текст научной статьи Аскетические сборники в книжности XV–XVII веков
Сказание Черноризца Храбра «О письменах» дошло до нас в трех болгарских редакциях: МДА, Лаврентьевской и Чудов-ской [Степанова, 1997. С. 8]. Последняя примечательна тем, что именно к ее тексту восходит текст первой русской версии этого памятника – Основной [Там же. С. 15–19].
Самый ранний список Чудовской редакции (и самая ранняя русская рукопись с сочинением Черноризца Храбра) читается в рукописи ГИМ, Чудовское собр., № 269 (далее – Чуд. 269). Это сборник первой половины XV в. 1, на 523 л. + I, 1º. Рукопись выполнена русским полууставом, но, видимо, восходит к болгарскому протографу, так как непоследовательно сохраняет черты среднеболгарского извода. В описании Т. Н. Про-тасьевой рукопись называется «Сборник со сказанием черноризца Храбра» [1980. С. 154]. Анализ его состава дает основание относить его к аскетическим сборникам.
М. С. Егорова предлагает выделять аскетические сборники как особый тип, основы- ваясь на функциональной направленности сборника и на характере включенных в него текстов: это в основном произведения святых отцов, вошедшие в формировавшийся в то время в славянских землях фонд мистико-аскетической литературы. Среди авторов – св. Василий Великий, Иоанн Лествич-ник, Диадох Фотийский, Григорий Синаит, Петр Дамаскин, Симеон Новый Богослов. Исаак Сирин и др. Все аскетические сборники можно разделить на две разновидности: свод и собственно аскетический сборник. В своды входили большей частью полные тексты святых отцов без сокращений и дополнительных статей или текстов малого объема. В собственно аскетические сборники – различные по объему компиляции цитат, фрагменты святоотеческих текстов, выписки из патериков и т. п. [Егорова, 2004. С. 182–184].
При этом заметим, что возникает определенная трудность в связи с неразработанностью терминологии: термин «собственно аскетические сборники» представляется неудовлетворительным, так как он описывает одну из разновидностей видовым названием. Впрочем, это ощущает и сама исследовательница, признавая необходимость его пересмотра [Егорова, 2004. С. 212] 2.
В сводах есть своеобразное текстовое «ядро» из отдельных святоотеческих текстов или их соединения. Авторитетные тексты не разбивались на части и отрывки. Индивидуальное начало составителя в таких сводах практически исключалось или сводилось к минимуму. Собственно аскетический сборник – это компилятивный текст, дополнительные статьи в котором обрели самостоятельность. Состав такого сборника уникален в своей единичности текстов и не воспроизводим в других сборниках; он зависит от составителя-компилятора. Для определения разновидности сборника очень важным оказывается объем включаемых произведений [Там же. С. 184–187].
Помимо структурных различий между двумя типами аскетических сборников отмечается и различие в их содержании: собственно аскетические сборники гораздо богаче по своему жанровому составу, включающему гомилетические сочинения, компиляции цитат, патериковые повести, жития, богослужебные тексты, т. е. тексты, не относящиеся непосредственно к мистикоаскетической литературе. Такое жанровое разнообразие ставит их в один ряд с традиционными сборниками «смешанного содержания» [Там же. С. 188–189] 3.
И, наконец, эти два типа аскетических сборников различаются по своим функциям и дают возможность говорить о двух прагматически различных моделях: «При составлении свода вмешательство личности самого составителя в текст было минимальным, так как целью его работы являлось сведение в книгу нескольких авторитетных текстов. Составитель свода лишь выбирал и располагал тексты в какой-либо последовательности. В своде фиксировался авторитетный опыт Церкви, предлагаемый читателю как руководство и пособие» [Там же. С. 189]. Таким образом, своды можно отнести к «теоретическим» текстам. Собственно же аскетические сборники рассчитаны на «формирование навыков и умений реализации постулируемых в тексте средств, способов, путей достижения христианского совершенства», т. е. представляют собой тексты «практические» [Там же. C. 208].
В славянской рукописной традиции аскетические сборники возникают не ранее середины XIV в. (старшие рукописи болгарского извода: сборник середины XIV в. № 79 и два сборника второй половины XIV в. № 80 и 81 из Библиотеки Академии наук НРБ, София) [Там же. С. 182–183]. Их распространение связано с возрождением исихастских традиций православного монашества в Византии и на Балканах. На Руси аскетические сборники появляются на рубеже XIV–XV вв. [Там же. С. 183–185]. Это проникновение можно объяснить влиянием исихазма на монастырские общежития и на русскую культуру в целом [Прохоров, 1974. С. 318].
Сборник Чуд. 269, безусловно, принадлежит к типу аскетических сборников, но не сводится ни к одной, ни к другой разновидности. Примерно половину его объема составляет текстовое «ядро»: слова Иоанна Златоуста и приписываемые ему (~ 70 л.), поучения Аввы Дорофея (~ 80 л.), слова Симеона Нового Богослова (~ 75 л.). Это основа структуры свода, в то время как в собственно аскетических сборниках эти тексты представлены выборочно, в виде выписок и отдельных глав [Егорова, 2004. С. 188]. При этом сочинения Аввы Дорофея и Симеона Нового Богослова – это сочинения писателей-исихастов, которые собственно и формируют аскетику. Слова Иоанна Златоуста, как и другие гомилетические тексты, обычно включаются в собственно аскетические сборники, но не в своды.
Вторую часть сборника Чуд. 269 составляют тексты среднего (от 8 до 20 листов) и маленького (до 5 листов) размера. Тексты среднего объема следуют за основным «ядром», распространяя и дополняя его, как это происходит в сводах. Это слова и поучения Никона, Анастасия Синаита, Макария Великого, Илариона, Зосимы, Максима
Исповедника, Ефрема Сирина, Феодора Студита, Нила Синайского. Мелкие статьи в основном переписаны за средними, иногда – между ними. Из наиболее частотных текстов, формирующих состав собственно аскетических сборников, в Чуд. 269 читаются следующие.
-
1. «Наказание святаго отца нашего Ила-риона къ отрекшимся мира Христа ради» (начало: «Къ старейшему брату и Христову рабу убогый азъ инокъ и посл h дний въ братъств h Иларионъ…», л. 281–292).
-
2. Нила Синайского о восьми помыслах (начало: «В h ждь, чядо, яко осмь есть по-мыслъ, иже вся злаа съд h ловающеи…», л. 367 – 367 об.).
-
3. Илариона о пустынном житии («Наказание о отврьжении мира») (начало: «Потщимся, братие, паче всего безмлъвно рабо-тати Господеви…», л. 279 об. – 280 об.).
-
4. «Слово о иночьском образ h » (начало: «Услышите, братие, колико почтенъ бысть иночьскый образъ…», л. 396 – 396 об.).
-
5. Беседы Зосимы о ярости (начало: «Пов h да намъ ученикъ отца Зосимы не-къгда рече: с h дящу ми съ отцемь моимь Зо-симомь и душеполезнаа словеса глаголю-щемъ нам…», л. 292 об. – 305 об.).
-
6. Анастасия Синаита «слово о шестом псалм h и поучение святаго поста» (начало: «Л h поту постънаго начятка истиннаго по-кааниа образъ подает церкви писание…», л. 261 об. – 270).
-
7. «Предание уставом, иже на вн h шн h й стран h пр h бывающим иноком, рекше скыт-скаго житиа правило» (начало: «Подобаеть бо в h д h ти о сем, яко обр h таем о святыхъ отцехъ, иже на вн h шн h й стран h б h аху пр h бывающеи…», л. 510–514).
-
8. Главы Нила Синайского о молитве («Постника Нила главизны о молитв h ») (начало: «Иже хощет благовонный фимианъ устроити…», л. 372 об. – 380 об.).
-
9. «От учительствъ отца Амъмония къ хотящим спастися» (начало: «Четыри вещи суть, и аще едину от них имат челов h къ, ни покаатися может, ни молитву его приемлет Богъ…», л. 362 об. – 366 об.).
-
10. Стефана Фивейского «о бд h ниих всенощных, еже въ святую нед h лю, и въ празд-никы Господьскыа учиненых пов h сти чюд-ны з h ло» (начало: «Сътвореные п h снем часов h никакоже не небр h зи, ниже всенощ-наа бд h ниа…», л. 479–480).
-
11. «Послание Евфимия Тырновского к Киприану» (начало: «З h ло нас обрадовалъ еси своимь писанием и вящьшии любве въспалилъ еси пламянь…», л. 341 – 346 об.).
Из других небольших по объему текстов в Чуд. 269 вошли сочинения Панкратия, Антиоха, Дософея, патриарха Константинопольского Геннадия, Василия Великого, Кирилла Александрийского, Афанасия Александрийского, Исаака Сирина, Григория Богослова, Евсевия Александрийского.
Значительную часть сборника Чуд. 269 занимают патериковые повести (~ 75 л.), в том числе из Киево-Печерского патерика (~ 12 л.). Из других русских произведений в рукописи помещено «Сказание о Борисе и Глебе» («Сказание и страсть и похвала святою мученику Бориса и Гл h ба»), без рассказа о чудесах и без статьи «О Борисе, как бе възъръм». По С. А. Бугославскому, это Чудовская редакция памятника, архетип которой восходит к оригиналу «Сказание о Борисе и Глебе» [Дмитриев, 1987. С. 404– 405].
Итак, сборник Чуд. 269, вероятно, можно отнести к промежуточной разновидности аскетических сборников. В собственно аскетических сборниках крупные по объему сочинения отцов церкви представлены выборочно, чаще всего это отдельные главы и выписки. В Чуд. 269 есть текстовое «ядро» – блоки из крупных святоотеческих текстов (Иоанна Златоуста, Аввы Дорофея, Симеона Нового Богослова). Кроме этого, заметно стремление составителя включать и другие сочинения в комплексе. Так, общий объем текстов среднего размера примерно 125 листов. И если в собственно аскетических сборниках отдельные главы и выписки из патериков используются в качестве своеобразных «связок» между текстами и создают отчетливый патериковый «фон» [Егорова, 2004. С. 182, 184], усиливая монашескую тему, то в Чуд. 269 патериковые тексты переписаны тоже в комплексе. Еще одно принципиальное расхождение Чуд. 269 с собственно аскетическими сборниками заключается в отсутствии в нем компиляций цитат из творений святых отцов.
От сводов сборник Чуд. 269 отличает большое количество средних и мелких по объему статей и наличие гомилетических текстов, что в сводах редкость.
Вообще, Чуд. 269 – значительный по объему сборник, в котором собран большой материал по монашески-аскетической теме. С одной стороны, вмешательство составителя в текст было минимальным, потому что его целью было свести в одну книгу несколько авторитетных текстов, он «лишь выбирал и располагал тексты в какой-либо последовательности» [Егорова, 2004. С. 190]. С другой стороны, наличие такого большого количества текстов, которые включены в сборник Чуд. 269, не позволяет отводить его составителю пассивную роль. Отбор, вероятно, уже предполагает некую личную, индивидуальную точку зрения. Вероятно, Чуд. 269 отражает переходный этап от свода к собственно аскетическому сборнику и представляет собой еще один тип аскетического сборника.
Выделяет Чуд. 269 из ряда как сводов, так и собственно аскетических сборников включение в его состав Сказания Черноризца Храбра «О письменах» («Сказание, како състави Святый Кирилъ словеном писмена противу языку», л. 346 об. – 348 об.). Произведение по этому списку – это болгарская редакция, Чудовская. Именно к ней восходит первая русская версия памятника. Почему составитель включает его в сборник аскетического содержания? Думается, это не случайно. В Чуд. 269 Сказание переписано после «Послания Евфимия Тырновского Киприану» (после Сказания следует новая рубрика «Главы доброд h телны преподобна-го отца нашего Феодора»).
Духовное становление Евфимия происходило под влиянием исихазма, который в Болгарии проповедовал его учитель Феодосий Тырновский: «Доктрина исихазма включала в себя нормы духовного самосовершенствования, которые должны были привести монаха к единению с Богом – то есть к истинному, освобождающему дух покою (“исихии”)» [Пиккио, 2002. С. 135]. Став патриархом, Евфимий принялся за духовное просвещение.
Чтобы укрепить свою независимую позицию в споре с греками, Тырновская церковь должна была еще раз узаконить использование при богослужении церковнославянского языка. Проведенная для этого лингвистическая реформа Евфимия основывалась на учении исихазма, согласно которому «языковое выражение – это не только форма, но и истинная духовная сущность. Кто говорит “Бог”, тот имеет дело не с символом божества, но с самим божеством.
Тайна слова уравнивается с тайной души, и потому письмо есть деятельность духовная. Точность языка есть сама точность религиозных понятий, а стиль словесного выражения соответствует степени мистического совершенства того, кто стремится к “иси-хии” (“покою”)» [Там же. С. 136]. Иначе говоря, слово для исихастов – «святая святых», произнести его или тем более написать следовало после обретения духовного совершенства.
В «Послании Киприану» Евфимий говорит о путях достижения нравственного очищения: « безъмлъвТе и постъ духов-наа съпруга, л^ствица на небеса, въз-водАфи поуть незаблудныи непрелест-ныи къ Богу, верига благосъчетаннаа; безмлъвТе и постъ чистоте ходатае, це-ломудрТа учТтелТе, на врагы wружТе непобедимо, столпъ крепокъ Ф лица вра-жТа » (Чуд. 269, л. 341).
При Евфимии язык, освященный Кириллом и Мефодием, стал объектом внимательного изучения. В этом контексте Сказание соответствует общей монашески-аскетиче-ской тематике сборника в духе исихазма. Вполне вероятно, через сборники, подобные Чуд. 269, которые восходили к славянским аскетическим сборникам, Сказание Черноризца Храбра попало в русскую письменность. Этому не противоречит и наша датировка Основной редакции второй половиной – концом XIV в. [Степанова, 1997. С. 25]. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что сборники, в которых читается первоначальный вариант этой редакции – Музейный, – тоже аскетические. Это четыре русские рукописи, одна из которых XVI в. (ОР РНБ, собр. Погодина, № 1300) 4; и три – XVII в. (ОР РГБ, Музейное собр., № 5527, далее – Муз. 5527; ОР РГБ, собр. Пискарева. № 150; Государственный архив Костромской области, ф. 558, оп. 2, № 231).
Мы уже писали о них как о сборниках религиозно-дидактических с рядом особенностей, главная из которых – это идентичность их состава [Степанова, 2011]. Анализ их содержания позволяет отнести их к аске- тическим сборникам 5. В этих рукописях читаются пять из наиболее частотных текстов, характерных для состава аскетических сборников (обычно из всего списка присутствуют в любом из сборников XIV–XVI вв. минимум три-четыре [Егорова, 2004. С. 193– 194]). Укажем их по Муз. 5527:
-
1) «Завет черньцем Великаго Василия» (л. 10 об. – 12);
-
2) «Слово отца Моисея, суще в ските, ко отцу Пимину, бе же бысть от него писати ему» (л. 40–52);
-
3) Св. Илариона о пустынном житии (л. 164–168);
-
4) Афанасия Великого «Слово оглавлено к заповедем Божиим всем отвергшимъся мира, хотящим спастися» (л. 261 об. – 271);
-
5) Св. Нила о восьми помыслах (л. 422 – 426 об.).
Если говорить о типе этих сборников, то их следует отнести к «собственно аскетическим сборникам»; мы бы предложили называть их «аскетические центонные сборники» («аскетико-центонные сборники»): в них представлены в основном мелкие статьи (до 10 листов), а сочинения отцов церкви входят не блоками, а виде выписок и отдельных глав. Например, в них помещены два сочинения Василия Великого (л. 7 об. – 12), три главы из поучений Аввы Дорофея (причем последняя расположена дистантно) (л. 19 – 26 об., 93 об. – 96 об.), две главы из Симеона Нового Богослова (л. 168–173) 6. Встречаются выписки из житий, патериков, фрагменты других произведений. Подчеркиваем, что это сборники закрытой структуры, хотя обычно сборники неустойчивого состава в целом и аскетические в частности не дублируются.
По содержанию они, конечно, более «пестрые», чем аскетические своды и Чуд. 269, за счет житий, апокрифов, патериковых повестей, которые в явном виде с мистикоаскетической литературой не связаны. Тем не менее в них присутствует неакцентиро-ванная монашеская тематика, иначе на каком основании они могут быть причислены к аскетическим? И даже, на первый взгляд, контрастирующий с общим содержанием тематический комплекс сочинений о языке
(«Сказание, как состави святый Кирил сло-веном писмена противу языку», «О племени Симове», «О племени Афетове», «О азбуке пермьстей» из «Жития Стефана Пермского» и «Начало азбуки греческой») имеет глубинные связи с традицией исихазма.
Кроме того, состав рассмотренных сборников отличается консерватизмом: в них нет ни одного произведения XVII в. Анализ их содержания дал возможность предположить раннее происхождение их сборника-протографа: полагаем, что он мог быть составлен уже в XV в., так как «по духу, по времени написания входящих в него памятников он близок эпохе “второго южнославянского влияния”» [Степанова, 2011. С. 191–192].
Таким образом, изучение состава аскетических сборников, способов их формирования помогает понять как сами типы рукописных сборников, так и пути проникновения на Русь и функционирования в русской среде отдельных входящих в них памятников.
ASCETIC SBORNIKS IN MANUSCRIPT TRADITION OF THE 15th–17th CENTURIES