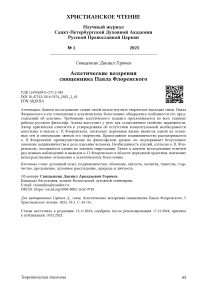Аскетические воззрения священника Павла Флоренского
Автор: Священник Даниил Горячев
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Данное исследование ставит своей целью изучить творческое наследие свящ. Павла Флоренского в его отношении к аскетическому богословию; обнаружить особенности его представлений об аскетике. Требование аскетического подвига прослеживается во всех главных работах русского философа. Аскеза выступает у него как существенное свойство церковности. Автор критически относится к утверждениям об отсутствии концептуальной необходимости аскетизма в мысли о. П. Флоренского, поскольку церковная жизнь является одной из основных тем и связующим звеном его творчества. Православное подвижничество рассматривается о. П. Флоренским преимущественно на философском уровне, он подчеркивает безусловное значение подвижничества в деле спасения человека. Необходимость усилий, согласно о. П. Флоренскому, оказывается одним из законов мироздания. Также в данном исследовании отмечен ряд ценных наблюдений и выводов о. П. Флоренского в области церковной практики, имеющих непосредственное отношение к аскетическому богословию.
Духовный опыт, подвижничество, обожение, святость, молитва, таинства, старчество, прельщение, духовное рассуждение, природа и личность
Короткий адрес: https://sciup.org/140309597
IDR: 140309597 | УДК: 1(470)(091)+271.2-585 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_43
Текст научной статьи Аскетические воззрения священника Павла Флоренского
1. Духовный опыт как критерий истины
Православная аскетика являлась устойчивым философским и научным интересом свящ. Павла Флоренского на протяжении всей его церковной жизни. Под разными именованиями он ставил ее в центр этой жизни. Свой самый известный труд «Столп и утверждение Истины» о. П. Флоренский начинает с утверждения о живом религиозном опыте как единственном законном способе познания догматов (см.: (Флоренский, 2017б, 9))1. Много внимания аскетическому богословию уделено в «Философии культа» и агиологических работах о. Павла. В жизнеописаниях известных ему подвижников он рассматривает особенности и закономерности духовного опыта. Все его крупные работы связаны с учением об аскезе.
Под аскезой о. Павел традиционно понимает духовную практику, усилия человека по преодолению своей греховности, одним словом — подвижничество. Атмосферу семьи, где он рос, о. Павел передает посредством понятия аскезы. Он указывает, что эта аскеза носила не только нецерковный, но и нерелигиозный характер: ей была свойственна «тонкая струя духовной прелести — на почве отрешенности от жизни и своеобразного, внецерковного и внерелигиозного, аскетизма» (Флоренский, 2018б, 15-16). Обратим внимание на использование им специфического и уникального термина православного аскетического богословия «прелесть», за которым стоит учение Церкви об опасностях в духовной жизни, в первую очередь — об опасности принимать ложный духовный опыт в качестве истинного. Таким образом, уже из этого замечания о. Павла следует вывод о том, что аскеза есть именно духовное упражнение, которое может иметь как истинное, так и ложное направление. В работе «Иконостас» он пишет, что мир прельщает своего раба «якобы достигнутым выходом в область духовную, и стерегущие эти выходы духи и силы отнюдь не „стражи порогов“, т. е. не благие защитники заповедных областей, не существа мира духовного, а приспешники „князя власти воздушной“, прельстители и обольстители, задерживающие душу у грани миров» (Флоренский, 2017a, 18). Не рассматривая вопрос о том, как о. Павел понимает указанные области и их связь с изобразительным творчеством, отметим, что понятие прелести здесь используется в традиционном для православной аскети-ки смысле, что подтверждают приводимые в примечаниях ссылки на святоотеческий опыт (см.: (Флоренский, 2017a, 527–528)).
В этой же работе о. Павел вслед за свт. Игнатием (Брянчаниновым) (см.: (Игнатий Брянчанинов, 2014, 488; Игнатий Брянчанинов, 2011, 102, 530)) характеризует католическую духовность как находящуюся в прелести (см.: (Флоренский, 2017a, 55–57; 2017б, 720)). Тот же диагноз распространяется, по о. П. Флоренскому, и на протестантских философов: Канта — протестанта по преимуществу (см.: (Флоренский, 2014, 104)) — и Гегеля (см.: (Флоренский, 2017a, 61)). В «Столпе и утверждении Истины» представлена подборка литературы относительно «патологичности прелестной мистики» (Флоренский, 2017б, 730–731). Данные примеры показывают, что аскетическое богословие о. Павел применял в широком философском поле. Это вообще характерная черта его творчества: вносить богословские идеи и термины в философию, наделяя их качеством универсальности.
Учение о прелести как ошибке в духовной жизни, а точнее, как обмане, в котором участвует бесовская сила2, подразумевает, что выявить это пагубное состояние может человек, обладающий духовным ведением (см.: [Горячев, 2019, 142]) или даром различения духов (8laкp^Gelc: nvtupamv, 1 Кор 12:10), чаще всего это опытный духовник, а в совершенном виде — старец. Тема старчества также является характерной для о. Павла, причем не только для его творчества, но и для всей его жизни. В юности он руководствовался наставлениями таких подвижников благочестия, как еп. Антоний (Флоренсов) и монах Исидор (Грузинский). О старце Исидоре о. Павел пишет отдельную книгу (Флоренский, 2010). Книга о владыке Антонии написана игум. Андроником (Трубачевым) во многом благодаря материалам архива о. Павла [Андроник Трубачев, 2019]. Особенными чертами старческой практики владыки Антония являлись внимательность к подробностям жизни обращавшихся к нему людей, бытовых обстоятельств; духовное руководство с помощью литературных источников, в том числе научных; ориентирование не только на духовное, но и на интеллектуальное развитие.
Старец Исидор, как следует из очерка тогда еще студента П. Флоренского, отличался крайней простотой, нес подвиг юродства, учил об Иисусовой молитве. Об этих двух старцах о. Павел говорит в своем «Завещании» как о молитвенниках за свою семью (см.: (Флоренский, 2004, 26)). В зрелом возрасте о. П. Флоренский с духовными вопросами обращался к архим. Давиду (Мухранову), афонскому духовнику, делателю молитвы. Тема старчества рассматривается также в работе о. Павла о св. прав. Алексии (Мечеве) (Флоренский, 2021, 770–806). Таким образом, старчество оказывается сквозной темой богословской мысли о. Павла. Значение этой темы выразительно передает следующее программное рассуждение «Столпа…» о духовной красоте как критерии правильной церковной жизни: «Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера „художества из художеств“, как святые отцы называют аскетику. Старцы духовные, так сказать, „набили руку“ в распознавании доброкачественности духовной жизни» (Флоренский, 2017б, 13). Не только наставления старца, но и его жизнь становятся, по о. П. Флоренскому, главным ориентиром на духовном пути.
Впоследствии о. Павел будет предлагать ввести отдельную кафедру, специализирующуюся на изучении феномена святости, — кафедру агиологии и агиографии (см.: (Флоренский, 2020, 36))3. А пока в раннем его произведении «Столп и утверждение Истины» мы видим указание именно на старцев как носителей Св. Духа. Много усилий в этой книге автор приложит для обоснования идеи, почему духовная жизнь, она же — церковность, неуловимы для логики и, соответственно, доступны именно аскетике. Отдельно этому вопросу посвящено письмо «Противоречие», в котором о. Павел детально излагает свое учение об антиномии как противоречии двух истин. Понятие антиномии встречается во всех книгах этого русского мыслителя, оказавшегося первопроходцем в исследовании богословских оснований антиномии (см. об этом: [Горячев, 2022]). Игумен Андроник (Трубачев) называет антиномизм одним из главных элементов мировоззрения о. Павла (см.: [Андроник Трубачев, 2012, 5]), и его значение не ограничивается лишь противопоставлением рационализму. Учение о. П. Флоренского об антиномии содержит не только философско-богословскую критику, но и особую методологию познания, которую можно назвать антиномическим балансом. Однако основная идея антиномии заключается в ограничении господства чистого разума. Иными словами, сказанными в начале «Столпа»: «Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный» (Флоренский, 2017б, 13).
К этому тезису о. Павел обращается на протяжении всей своей книги: «Вот почему аскетику, как деятельность, направленную к тому, чтобы созерцать Духом Святым свет неизреченный, святые отцы называли не наукою и даже не нравственною работою, а искусством, — художеством, мало того, искусством и художеством по преимуществу, — „искусством из искусств“, „художеством из художеств“» (Флоренский, 2017б, 103–104).
Автор «Столпа» обращает внимание на буквальное значение слова φιλοκαλία, которым называются сборники аскетических произведений. На русский язык оно традиционно переводится как «добротолюбие». Однако в широком смысле слова оно используется для обозначения качества преображенной личности: «Созерцательное ведение, даваемое аскетикою, есть φιλοκαλία, любовь к красоте. <…> Да и в самом деле, аскетика создает не „доброго“ человека, а прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников — вовсе не их „доброта“, которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная» (Флоренский, 2017б, 104).
Итак, целью и результатом аскетики, по Флоренскому, является святость, что вполне согласно с апостольским словом: ибо воля Божия есть освящение ваше (ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν , святость ваша — в церковнославянском тексте, 1 Фес 4:3). При этом о. Павел со свойственной ему определенностью говорит, что аскетический путь к вечной Истине — путь единственный (см.: (Флоренский, 2017б, 104, 184, 313)). И уже из практики, из очищенного сердца, рождается «созерцательное ведение» — теоретические богословские построения — что также вполне отвечает церковному Преданию, выраженному, например, свт. Григорием Богословом: «Где очищение, там озарение» (Григорий Богослов, 2010, 454).
2. Борьба с грехом — основная задача аскетики
Учение о. П. Флоренского о грехе также содержится в книге «Столп и утверждение Истины». Автора в первую очередь интересует «грех в его метафизическом корне» (Флоренский, 2017б, 174), который объясняется им с помощью понятия беззакония: грех есть беззаконие (1 Ин 3:46). Грех не имеет собственной сущности, грех сам по себе онтологически пуст, всю свою силу он берет из Божественного творения, только лишь искажая его, оказываясь болезнью, порчей, повреждением этого творения, но не самостоятельной субстанцией. Беззаконие «есть извращение Закона, — указывает о. Павел, — т. е. того Порядка, который дан твари Господом, того внутреннего Строя всего творения, которым живо оно, того Устроения недр твари, которое даровано ей Богом, той Премудрости, в которой — смысл мира» (Флоренский, 2017б, 175).
Кроме широкого (физического и метафизического) понимания закона Божия о. Павел обращается к его этическому пониманию как нормы человеческого поведения. Здесь он прибегает к своему постоянному этимологическому методу и находит, что слово «грех» приравнивается к слову «о-грех», так что «грешить» значит «ошибиться», «не попадать в цель» (Флоренский, 2017б, 184).
Примечательно, что к описанию метафизических основ греховности о. Павел прибавляет и психологическое объяснение, связанное с нежеланием человека идти тесным путем аскезы: «Не попадаем в ту цель, которая преднамечена нам Правдою, — одним словом, не желая подвига, сходим с истинного своего пути, начертанного на земле Божественным Перстом Подвиго-положника» (Флоренский, 2017б, 184).
Итак, грех, по о. П. Флоренскому, представляет собой уклонение с истинного пути. «Это — рас-путство, т. е., переход с пути на путь, шатанье по разным путям, блуждание по разным дорогам, а не по единственной правильной; или еще, это — блуждание, блужение, блуд, потеря своей настоящей стези <…>» (Флоренский, 2017б, 184). Далее автор ставит вопрос о существе истинного пути и делает тем самым переход к теме противостояния греху: «Каков же истинный путь, называемый в Писании узким путем в жизнь (Мф 7:14, ср. Деян 2:8), путем мира (Лк 1:19), путем спасения (Деян 16:17) и путем Господним (Деян 19:9), путем истины (2 Пет 2:2) и путем прямым (2 Пет 2:15)?» (Флоренский, 2017б, 184–185).
Тут же им дается конкретный ответ: «Это — целомудрие. И самое слово-то целомудрие, σο-φρωσύωη или σαο-φροσύνη по своему этимологическому составу указывает на цельность, здравость, неповрежденность, единство и вообще нормальное состояние внутренней жизни, нераздробленность и крепость личности, свежесть духовных сил, духовную устроенность внутреннего человека» (Флоренский, 2017б,
-
185) . Таким образом, о. Павел вполне определенно указывает на основную задачу духовного подвига, заключающуюся в возвращении к истинному состоянию человека, не растленного грехом, «через стяжание Духа» (Флоренский, 2017б, 312, 314).
Насколько свойственно аскетическому богословию о. Павла понятие борьбы с грехом, не более ли подходящим будет смягченное «противостояние»? Действительно, в литературе и живописи (вспомним, напр., картину М. В. Нестерова), скорее, распространен поэтический образ о. П. Флоренского, человека тихого и мягкого нравом, интеллигентного и утонченного. При этом философским и аскетическим взглядам о. Павла вполне подходит понятие борьбы. Сам он неоднократно указывает на «аскета и духовного подвижника» (Флоренский, 2017б, 60) свт. Афанасия Великого как образец духовного борца4. Понятие борьбы в аскетическом контексте встречается на страницах «Столпа»: «борьба за целомудрие» (Флоренский, 2017б, 172), «борьба за любовь» (Флоренский, 2017б, 472) и др. Показательно для выяснения отношения о. П. Флоренского к борьбе письмо 12-е из этой книги, озаглавленное «Ревность». Данное понятие означает «наличность силы, мощи, стремительности. Это — противоположность вялости, бессилию, слабости. Вот почему, ревновать нередко употребляется в значении „с силою, с энергиею стремиться к чему-нибудь“, „быть энергичным в чем-нибудь“» (Флоренский, 2017б, 477); ревность у о. П. Флоренского является «необходимою стороной сильной любви» (Флоренский, 2017б, 479), почему это свойство Св. Писание и приписывает Богу (Исх 20:5, Втор 4:24, 4 Цар 19:31, Зах 1:14, Пс 77:58, Пс 78:5, Ис 9:7, Иез 23:25, Прем 5:17 и др.).
Научным руководителем, с которым о. П Флоренский выходил на защиту своей магистерской диссертации — сокращенного варианта книги «Столп и утверждение Истины», был ректор МДА еп. Феодор (Поздеевский), рукоположивший о. Павла в диакона и священника. Он являлся первым в Академии преподавателем курса аскети-ки, по итогам реформ нач. ХХ в. соединенного с пастырским богословием. Епископ Феодор указывал, что христианство «неизбежно аскетично, т. е. требует борьбы, подвига и упражнения» [Феодор Поздеевский, 1911].
Понятие борьбы используется о. П. Флоренским также для объяснения феномена мученичества — свидетельства истины, «первоявления церковности» (Флоренский, 2014, 358)5. Отец Павел следующим образом описывает внешнюю сторону мученичества: «Чтобы свидетельствовать об истине — надо бороться, побеждая тьму неведения и лжи: свидетель есть борец и, духовно, победитель. При борьбе же — приходится не только наносить, но и получать удары, а потому — страдать, мучиться и изнемогать, и даже умирать» (Флоренский, 2014, 363). Аскеза в данном контексте также рассматривается как проявление мученичества, и любой лик святости — как типологически относящийся к мученичеству (см. об этом: (Флоренский, 2014, 375))6.
Наиболее контрастно, как представляется, требование напряженного противостояния собственной природе, удобопреклонной ко греху, выражено у о. П. Флоренского именно в «Философии культа». Личностное начало «полагает меру безликой мощи человеческого естества, ибо деятельность лица — именно в мерности, в ограненности и в наложении определений и границ» (Флоренский, 2014, 133). В противном случае вседозволенность исказит и саму природу человека; из отказавшегося от закона Божия «человекобога выглянет и звериная морда. Но это — не по личным недостаткам, а с роковою необходимостью, по законам аскетики. И если называют железными законы механики, то воистину законы аскетики, — учения о духовных связях нашего существа, — должно называть алмазными по крепости» (Флоренский, 2014, 111). Победа несвойственного для человеческой природы греха и греховность, ставшая личностным свойством, создают «личину» (Флоренский, 2017а, 22; Флоренский, 2017б, 186, 702) человека — подмену того, к чему он призван, а именно к святости и преображению в духовный лик. Последнее предполагает духовный труд — аскетическое усилие.
Не только природа человека требует усилий по ее сдерживанию — противостояние культурного и стихийного является, по о. П. Флоренскому, принципом этого мира. В его автобиографической статье читаем: «Основным законом мира Ф[лоренский] считает второй принцип термодинамики — закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос — начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству — смерти» (Флоренский, 1994, 39).
Согласно следующей записи о. П. Флоренского, понятие борьбы играет ключевую роль в его философии: «Борьбою с диавольским началом в человеке занята теодицея, борьбою же с титаническим — антроподицея» (Флоренский, 2014, 455). При этом следует заметить, что падшие ангелы, демоны в его философско-богословских построениях не имеют такого значения, как, например, у Евагрия Понтийского; основное внимание в борьбе с греховными страстями о. Павел уделяет их антропологическим условиям, а именно противостоянию собственной самости, обращенности на себя.
Таким образом, понятия борьбы, ревностного подвижничества7, напряжения сил, аскезы свойственны мировоззрению о. П. Флоренского и востребованы его философией, что дистанцирует его от взглядов, например, А. С. Хомякова и Вл. С. Соловьева8.
3. Необходимость аскезы в обожении человека
Если грех, согласно рассуждениям «Столпа», оказывается повреждением Божественного порядка, устроения, замысла тварного мира, то избавление от греха и его последствий означает исправление творения и возвращение его к первозданному состоянию.
О путях, по которым происходит возвращение твари к своей истинной цели, говорит вторая крупная философско-богословская работа о. П. Флоренского «Философия культа». Если содержание «Столпа и утверждения Истины» можно свести к основной теме откровения Бога о Себе, о путях Бога к человеку, в том числе о том, как явлен Бог человеческому разуму, то связующей мыслью «Философии культа» оказывается путь к Богу — кого? — всей твари. Первый этап творчества о. Павла традиционно обозначается теодицеей; второй — по его собственному названию — антроподицеей. Теодицея содержательно совпадает с областью догматики; антроподицея, как представляется, в первую очередь соотносится с аскетикой — подвижничеством, движением человека к Богу. Хотя материал «Философии культа» почерпнут главным образом из литургических источников, однако по своим темам, своим охватом практики духовной жизни данная книга распространяется на весь церковный опыт деятельного благочестия.
Центральные вопросы «Философии культа», вызывающие наибольшее обсуждение, связаны со святыми таинствами и обрядами. Здесь характерной особенностью философии свящ. П. Флоренского выступает учение об обожении всей твари. Н. Н. Павлюченков замечает, как тексты Священного Писания, в которых говорится о спасении именно человека, в работах о. Павла расширяются до всего тварного мира (см.: [Павлюченков, 2023, 421–422]). Например, завет Божий с Ноем, по о. П. Флоренскому, заключен со всей тварью9. «С заменой человека на „тварь“ Флоренский прочитывает и другие места из Священного Писания. <…> Христос заповедует проповедовать Евангелие всей твари (Мк 16, 15)» [Павлюченков, 2023, 421]. Здесь замены также не происходит, библейский текст приведен о. Павлом дословно (и может быть пополнен другими примерами персонификации твари: ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (Рим 8:19); благовествования… которое возвещено всей твари поднебесной (Кол 1:23)).
Можно ли говорить в данной ситуации о принижении статуса человека, о смешении его с остальным творением? Представляется, что данное учение, напротив, подчеркивает главенствующее положение человека, возглавителя твари в ее освящении. Именно человек своей культовой деятельностью освящает мир. Когда о. П. Флоренский расширительно передает слова Писания, то делает это по методу логического пропуска, энтимемы. Недостающей предпосылкой в данном случае должно быть указание на связь человека и всей твари, во-первых, как части и целого, и во-вторых, как главного и подчиненного10. При этом и название творческого этапа « антропо дицея» также должно говорить в пользу правильного отражения иерархического порядка. Если смотреть на философию о. П. Флоренского как на философию всеединства, приведенное расширительное толкование действительно характерно, но все же не относится к богословской погрешности. Более того, соединение с Богом всей твари представляет собой одну из тем святоотеческого богословия, в частности, свт. Григория Нисского11, прп. Максима Исповедника12 и прп. Иоанна Дамаскина13.
Другая особенность творчества мыслителя, ставшая предметом детального исследования Н. Н. Павлюченкова, названа Николаем Николаевичем учением об изначально обоженных основаниях твари (см. подр.: [Павлюченков, 2023, 437, 451, 458, 460, 475, 502, 576; Павлюченков, 2012, 190–212]; «изначальное обожение» [Павлюченков, 2023, 451]). Отклонение о. П. Флоренского от церковного понимания обожения, согласно выводу исследователя, заключается в том, что в философии о. Павла отсутствует концептуальная необходимость обожения: «В особом благодатном воздействии здесь, как кажется, в принципе нет необходимости, поскольку духовный, „обожен-ный“ горизонт в человеке — это свойство его природы, и проникнуть в него можно средствами одной только „естественной“ мистики» [Павлюченков, 2023, 492]. Это означает, что, несмотря на имеющиеся рассуждения о. Павла об обожении, о необходимости для человека реального соединения с Богом, данные утверждения оказываются в его системе безосновательными, т.к. человек (и вся тварь в целом) уже имеет задатки Божественной жизни. Поскольку в самом творении находится корень, связующий его с Творцом, и творение укоренено в Боге, постольку оно не нуждается в новом Богодаровании; творению требуется только развить уже имеющееся у него Божественное начало. Н. Н. Павлюченков прослеживает данную идею и в ранних, и в поздних работах о. П. Флоренского, усматривает в ней концептуальный характер.
Заметим, что о. П. Флоренский не использует формулировки «изначально обо-женные основания твари» или «изначальное обожение», в его работах встречаются выражения «вечное обожение»14, «печать» (Флоренский, 2017б, 350-351)15 и «корень» (Флоренский, 2017б, 321), указывающие на связь творения с его Творцом. Философ говорит о необходимости этого Божественного присутствия в тварном мире как источника его жизни. Наличие «отпечатка» Бога в этом мире означает принадлежность мира Богу. Мир является не просто творением, но творением Божиим, и отсюда следует святость творения как его бытийная задача. Таким образом, речь идет о начатках и условиях духовной жизни человека и освящения мира; Божественный «отпечаток» в твари не отменяет, а предполагает ее дальнейшее освящение.
Идею Божественности мира как отнесенности мира к Богу раскрывает софиология о. П. Флоренского, отрицающая заблуждения как манихейского дуализма, так и разновидностей пантеизма. Данное учение о. П. Флоренского говорит о цели создания и его идеале и, следовательно, о необходимости их достижения. Более позднее учение о. П. Флоренского о символе как о присутствии Бога в мире посредством Его энергий предполагает активное усвоение человеком этих энергий. Многократные обращения о. П. Флоренского к библейским понятиям человеческого образа и подобия (Быт 1:26, Рим 8:9, 1 Кор 11:7, Кол 3:10) также говорят о необходимости духовного возрастания в богоподобие. Его философия культа прямо утверждает необходимость для человека подвижничества в овладении своей природой. Поздние рассуждения мыслителя об энтропии (необходимости привнесения энергии) можно также рассматривать как вариант христианского учения о соработничестве Бога и человека.
Таким образом, учение об обожении как цели человеческой жизни и необходимости усилий на этом пути не является инородным для творчества о. П. Флоренского, а связано с его основными идеями, предполагается ими, концептуально вписано в них. В статье об о. П. Флоренском, содержащейся в «Православной энциклопедии», — итоговой для флоренсковедения в целом — Н. Н. Павлюченков высказывается по данному вопросу менее категорично: «Софию как свое изначально обоженное основание человек не может опознать без прямого общения с Богом» [Павлюченков, 2024, 676].
Учение об обожении, как пишет о. П. Флоренский, является «идейной сутью аскетизма» (Флоренский, 2017б, 296). При этом о. Павел, по-видимому, сознательно не проводит терминологического различения между понятиями обожения, уподобления Богу, святости, спасения, исцеления, преображения, прославления, соединения с Богом и т.п. Несмотря на то что у каждого из данных понятий имеется собственная специфика, все они отражают единое духовное явление, оказываются взглядами с разных сторон на один и тот же предмет — соработничество Бога и человека в деле спасения. Священник Павел Флоренский один из первых возрождает внимание к святоотеческому понятию обожения, однако не прослеживая его особенности как исключительного Божиего дара. Поэтому «вечное обожение» как изначальное обладание человеком основаниями для духовного роста можно отнести не к мировоззренческой, а терминологической ошибке о. Павла.
Если под «вечным обожением» понимать человеческое богоподобие, то оно действительно заложено в человеке в зачаточном состоянии. На основании обширного святоотеческого материала Ж.-К. Ларше отражает эту мысль в работе «Исцеление духовных болезней»: «Совершенство для человеческого существа заключается в обо-жении и в самой его природе заложено стать богом по благодати» [Ларше, 2018, 13]. Адам «изначально был устремлен к Богу и обладал в самой своей природе, сотворенной по образу Божию, всеми добродетелями» [Ларше, 2018, 14]. Патролог отмечает, что невозможно «провести параллель между различиями образ — подобие и природа — сверхприрода, где подобие было бы чем-то сверхприродным, добавленным благодатью Божией. <…> Человек, благодаря присущему ему образу Божию, совершенен по природе, хотя и потенциально» [Ларше, 2018, 16].
Также Н. Н. Павлюченков утверждает, что место христианской аскетики (реальность духовной брани) в системе о. П. Флоренского занимает учение о преодолении человеческой субъективности (см.: [Павлюченков, 2023, 503]). «Тварному „Я“ нужно открыться пред Богом и отдать себя другому тварному Ты. Этих актов само-отдачи достаточно для того, чтобы вывести тварь в Божественную вечность, в состояние обожения» [Павлюченков, 2023, 451]. Можно было бы согласиться с исследователем, если и здесь провести равенство между обожением и любовью, совокупностью совершенства (Кол 3:14)16, стяжание которой и подразумевает самоотдача. Прийти же в это состояние, а по сути, войти в Божественную вечность, возможно только сквозь тесные врата (Лк 13:24) борьбы со страстями и церковной жизни. О последнем как раз и говорят книги «Столп и утверждение Истины» и «Философия культа»: первая — о выходе из эгоистической замкнутости; вторая — о подчинении стихийности природы человека его личности.
Об антроподицее о. П. Флоренского исследователь заключает: «Посредством „ми-стики“ церковного богослужения (таинств и обрядов) без особых (в том числе и аскетических) усилий… человек в своей эмпирической составляющей получает доступ к соединению с Богом» [Павлюченков, 2023, 495]. У о. Павла речь идет о том, что само по себе участие в Евхаристии (а именно принятие Св. Даров) по своей доступности не является напряженным духовным подвигом. Однако чтобы победить страсти, без понуждения самого себя здесь не обойтись: «Таинством залит огонь геенны, и от личности зависит, возгорится ли он снова или нет, тогда как без таинства он не мог не возгораться» (Флоренский, 2014, 164). Более конкретная и взвешенная интерпретация этого вопроса предложена Н. Н. Павлюченковым в его энциклопедической статье: «В обычном порядке… восхождение от дольнего к горнему требует особых стараний и усилия воли»; в условиях же культа человек приобщается к духовному миру без особых усилий [Павлюченков, 2024, 677].
4. Основные средства исправления человека
Если цель жизни человека выражается в соединении с Богом, Сам Бог есть цель и смысл его жизни, то препятствием на пути обожения оказывается греховность человека. В обращенности на себя, в самости видит о. П. Флоренский сосредоточение греховности17. С выходом из зацикленности на себе связывает он преодоление страстей. Переориентация человека со своих собственных интересов и проблем на окружающую жизнь (на другого) и ее Источник ведут человека к утверждению в любви: «Омытый Духом Святым, отделенный от самости своей чрез устроение себя, нащупал подвижник в себе свой безусловный корень, — тот корень вечности, который дан ему чрез соучастие в недрах Троичной Любви» (Флоренский, 2017б, 321). В своем исправлении и очищении человек нуждается в благодатной помощи, которая обретается не иначе как в церковной жизни. Основными средствами, которыми приводится в Божественный порядок устроение человека, согласно «Философии культа», являются таинства и молитва. Значение святых таинств для аскетического делания традиционно рассматривается в современных исследованиях и курсах по православной аскетике, однако внимание уделяется обычно Крещению, Исповеди и Причастию. Отца Павла же интересует не только воздействие всех таинств на человека и мир, но и связь между таинствами.
Семь таинств соответствуют, по о. П. Флоренскому, семи основным устоям человеческой жизни, ее необходимым функциям. Здесь проявляется онтологический подход философии о. Павла («конкретной метафизики», см.: (Флоренский, 2017в)), стремление распознать саму вещественную реальность совершаемого священнодействия, его интересует именно природный уровень, а не психологический или нравственный. Во многом этот подход носит интуитивный (в отличие от доказательного) и экспериментальный (новый, требующий подтверждения) характер. Так, Крещение относится к функции очищения тела; Миропомазание — его облачению; Исповедь — словесной функции; Причащение — питанию; Брак — размножению; Елеосвящение — врачеванию; Священство — управлению. Таким образом, процесс освящения человека распространяется не только на его духовно-душевную сторону, но и связывается с телесной жизнью.
Более того, культовая деятельность человека является, согласно о. П. Флоренскому, освящением всего тварного мира. Эта деятельность имеет материальное выражение и в своем процессе, и в своих результатах — создаваемых святынях. Например, святая вода, которая дает освящение всей водной стихии (о. Павел обращает внимание на указание богослужебной минеи о том, что в навечерие Богоявления вода освящается внутри храма, а в сам праздник — за его пределами, на иордани). Святая вода с остатками святых елея и мира после таинства Крещения также выливается в землю, продолжая в ней свое освятительное действие (см. об этом: (Флоренский, 2014, 311)).
Данная феноменология таинств и обрядов помогает понять и такое странное на первый взгляд отношение к имени Божию, когда о. П. Флоренский говорит, что не Сам Христос, а Его имя непосредственно доступно для человека (см.: (Флоренский, 2017в, 371)). Имя оказывается той вещественной реальностью, с которой способен соприкасаться человек и вместе с тем вступать в общение с Богом, поскольку Его имя является носителем благодати. Имя онтологически связано с именуемым — только в такой парадигме, согласно о. П. Флоренскому, возможно реалистическое восприятие святости имени Божия, святости объективной, а не наделяемой человеком. Призывание имени Божия ставит человека в определенное отношение к Богу, отсюда следует необходимость благоговейного обращения с именем и, в частности, с молитвой.
Обращение к Богу есть существенный признак молитвы. В «Философии культа» о. Павел предлагает общую схему церковной молитвы, где вслед за призыванием имени идет указание на «типическое», т. е. такое событие из Священного Предания, где явно осуществилась помощь Божия, а значит, может вновь повториться, и затем уже озвучивается само прошение с верой, которая как раз основывается на реальности этого типического события. В качестве примера можно привести начало следующего кондака: «Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим» (Требник, 1996, 226). Завершает эту общую схему славословие, скрепляемое словом «аминь».
Итак, работы о. П. Флоренского содержат достаточный материал, связанный с осмыслением аскетизма, который способен дать представление о соответствующих взглядах автора. Аскетика, по о. П. Флоренскому, оказывается вопросом, который развивается в диалогичности критики и апологии — критика критики — его взглядов. К дальнейшему исследованию в данной области можно отнести его отдельные рассуждения о грехах (например, о курении как отгораживании себя от окружающей реальности, или блуде как восприятии человека в качестве вещи, а не личности), греховных страстях, добродетелях (много внимания о. П. Флоренский уделяет темам страха Божия и целомудрия), о средствах борьбы с бесами (Крест Господень, имя Божие), об опасностях в духовной практике, о монашестве, о труде, о святости, и в частности о мученичестве и исповедничестве, и другие темы. Детального изучения требует его теория церковных таинств в ее связи с аскетизмом.
Однако уже на основании рассмотренных рассуждений философа и богослова можно сделать вывод о большой значимости для о. П. Флоренского христианского аскетизма. Во всех своих крупных трудах он обращается к данной области. Православная аскетика в философии о. П. Флоренского фактически совпадает с понятием церковной жизни. Церковность не мыслится им без практики, которая выражается в аскетических упражнениях. Через усвоение благодати, подаваемой в Церкви, и самопонуждение происходит освящение человека и достижение им цели своей жизни — обожения. Необходимость усилий на всех уровнях жизни также является существенным элементом мировоззрения о. П. Флоренского. Таким образом, аскетизм в его философии обладает универсальным значением.