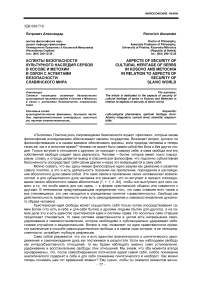Аспекты безопасности культурного наследия сербов в Косове и Метохии в связи с аспектами безопасности славянского мира
Автор: Петрович Александар
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена аспектам безопасности культурного наследия сербов в Косове и Метохии в связи с аспектами безопасности славянского мира.
Культурологические феномены, духовное наследие, евроатлантические интеграции, циничный ум, научная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14933386
IDR: 14933386 | УДК: 009:719
Текст научной статьи Аспекты безопасности культурного наследия сербов в Косове и Метохии в связи с аспектами безопасности славянского мира
«Политике» Платона роль сопровождения безопасности играют «филлаки», которые своим философским исследованием обеспечивают кризисы государства. Возникает вопрос, должно ли философствование и в нашем времени обеспечивать кризисы, если природа человека и теперь такая же, как и в античное время? Человек не может быть самим собой без Бога и без других людей. Только вступая в отношения с другими, он приходит к самому себе, а сама свобода или его собственная свобода создает свою реальность. Человек - бытие, которое имеет логос (смысл, разум, слово), и отсюда делается вывод в классической философии, что подлинно субъективная бесконечность опосредствует себя своим другим и через это возвращается в саму себя.
Можно сказать, что мы здесь имеем философскую идею разума как движение и развитие самого понятия, а это и есть деятельность познания как проявление, порождение и наслаждение абсолютного духа самим собой. Это само самое в проявлении своих человеческих возможностей, а для субъективного духа человека это означает, что он вступает в процесс опосредования своего абсолютного самим абсолютным [1, т. 1, с. 84], чтобы оно выступило для него самого и то, что особо важно для нас здесь, - в форме христианской общины или совместно с другими. В гегелевском предупреждающем определении того, что само ставшее есть также и все становящееся, это уже находится в определении понятия «нравственность». Свобода как действительность нравственности тоже есть самоудерживание и самовосстановление духовного образа человека.
Христианская идея свободы может осуществить себя только путем опосредствования самим Богом (что есть в-себе и для-себя бытие) и другими людьми (бытие для-другого), а на самом деле это и есть единство христианской идеи и системы права. Но поскольку само ставшее продолжает становиться, то сама система нравственности в целом есть непрерывное само-удерживание и самовосстановление, которое необходимо и субстанциально удерживает себя, снимая случайное и акцидентальное. Вопрос в том, позволяет ли идея нравственности провести различение в способе самоосуществления свободы и в самом ходе истории, в ее непосредственности, потребует глубокую рефлексию.
Само собой разумеется, что это и есть единство аналитического и синтетического самодвижения и самонахождения духа как постижимое в результате. Если мы наблюдаем свободу как интерсубъективность отношений, то мы будем наблюдать именно само установление, удерживание и восстановление свободы этих отношений. Мы знаем, что оба момента всегда одновременны, что, после самообнаружения логической идеей самой себя, любое понимание аналитического содержит в себе и для себя понимание синтетического и наоборот. Как можно теперь понимать нам тот временной момент? Ему нужно, чтобы он оказался моментом вечно- 17 - сти самосозерцания духа и его собственного настоящего. Это нужно понимать как синтетический акт, который окажется синтетическим самого аналитического и рассматривает проблемы на уровне ноуменальной позиции, как об этом думал и Е. Гуссерль [2]. Но мы имеем в виду философский разум, который порождает себя, созерцая всегда сам себя, в своем развитии понимания, а это позволяет нам конкретно мыслить синтетический аспект [3, т. 1, с. 421, 422]. Разумное принадлежит себе самому, поскольку оно уже обнаружило себя и созерцает себя как момент вечности, но дело в том, как определить момент, в котором разумному предстоит обнаружить себя и действительно обнаружить себя [4]. Сегодня это очень тяжело сделать без сомнения в конечном успехе.
Самосознание своего времени и есть самосознавание происходящего, еще не завершенного, но полагающего себя бытия, и в этом смысле философствование может быть мысленным отношением к становящемуся и происходящему как к актуальному. Для логически определенной мысли ее собственная деятельность не может быть иной, кроме деятельности в настоящем, а если и по отношению к настоящему, то это происходит действительно в качестве задачи, которой она не может себе не поставить.
В значительной мере тотальность разумного правого порядка положила себя и оказывает влияние и воздействие на ту часть мира, которой предстоит достичь той же разумности [5]. Последнее определение любого субъекта есть результат снятия эмпирической реальности в качестве сети или саморегуляции тотального. В качестве саморегуляции, которая творит аспекты безопасности, мы можем иметь в виду рынок финансового капитала, любого производства, политического мира, информационной технологии, а также и взаимное влияние этих сфер друг на друга, а в мере самоосуществления этого бытия-для-другого, оно и есть для себя-самого. Это есть отношение вневременной абсолютной идеи к бытию настоящего, и есть тот способ действительного возобновления разумного им самим, но это разумное не безопасно и в лоне себя носит огромные проблемы. Однако в более поздних работах по истории философии можно найти непримиримое презренье не только к уважению другой культуры, но и к так называемому фанатическому дискурсу сверхчувственного [6]. Осуждение души, которая уходит в свой внутренний мир, в свою от мира скрытую веру, в пассивность, является неуместным, на что справедливо два столетия назад указал Г. Гегель: «Чтобы воздать честь истинному смирению, следует не оставаться жалким человеком, а подняться выше своего ничтожного характера, ухватившись за божественное» [7, кн. 3, с. 497]. Вызванный конфликт интерпретаций как понимание редукции рационально-философского контекста продуцировал огромный кризис.
Отличие этого возобновления от всякого другого предыдущего исторического находится в объективации самосознательной воли, в телеологии и в процессе снятия телеологического без ответственности существа христианской теологии, и философского созерцательного обсуждения тоже. Натуралистическая и анархическая методология использовала усталость, которая обеспечила хорошее понимание вещей, а самое общее имя этой наивности – объективизм , который есть проявляющийся в различных формах натурализм, в натурализации духа. Но дух, и даже только дух, существует в себе самом, и для себя самого, независим, может изучаться рационально, достигши истинного и изначально научного становления.
Утрата сербских ценностей и непрерывно держание сербов в состоянии мобильной неизвестности, в интересах мультинациональных компаний евроатлантических интеграций, демонстрировали характер нового контрапозитивнного «объективизма» культуры. Но при помощи «больших славянских братьев», «славянского мира» вообще, сербы будут вставать и снова строить свою взаимосвязь со славянским миром на его культурном уровне, как Господь повелевает по нашей православной вере и указывает на человеческое достоинство. И если это опять-таки оказывается истинным в качестве постфактум мышления, то, зная об этом из истории, сама актуально протекающая мысль, мыслящая современное себе, контролирует горизонт безопасности. В этом тоже можно видеть и современную непосредственную установку христианской идеи.
Ссылки:
Список литературы Аспекты безопасности культурного наследия сербов в Косове и Метохии в связи с аспектами безопасности славянского мира
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1975.
- Нравственные ценности в эпоху перемен. М., 1994.
- Вопросы философии. 1986. № 3
- Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 8. М., 1994. С. 236
- Гегель Г. Лекции по истории философии. СПб., 1999.