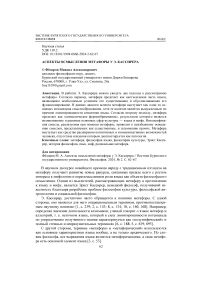Аспекты осмысления метафоры у Э. Кассирера
Автор: Федоров М.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работах Э. Кассирера можно увидеть два подхода к рассмотрению метафоры. Согласно первому, метафора предстает как неотъемлемая часть языка, являющаяся необходимым условием его существования и обусловливающая его функционирование. В рамках данного аспекта метафора выступает как один из основных механизмов смыслообразования, хотя ее наличие является вынужденным по причине лимитированности семантики языка. Согласно второму подходу, метафора предстает как «символическое формообразование», результатом которого является возникновение и развитие основных сфер культуры - языка и мифа. Интенсификация смысла, реализуемая при помощи метафоры, приводит к неизбежному освещению смыслов, представляемых как существенные, и затемнению прочих. Метафора выступает как средство расширения когнитивных и коммуникативных возможностей человека, отсутствие владения которым диагностируется как патология.
Метафора, философия языка, эрнст кассирер, история философии, язык, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/148328965
IDR: 148328965 | УДК: 130.2 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-2-62-67
Текст научной статьи Аспекты осмысления метафоры у Э. Кассирера
Фёдоров М. А. Аспекты осмысления метафоры у Э. Кассирера // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. № 2. С. 62‒67.
В научном дискурсе новейшего времени наряду с традиционным взглядом на метафору получают развитие новые ракурсы, связанные прежде всего с ростом интереса к мифологии и переосмыслением роли языка как объекта философского осмысления. Одним из мыслителей, рассматривающих метафору в преломлении к языку и мифу, является Эрнст Кассирер, немецкий философ, получивший известность благодаря разработке проблем философии культуры, философской антропологии и социальной философии.
Э. Кассирер, достаточно часто обращается к понятию метафоры. С одной стороны, оно является для него операциональным термином, противопоставленным научному понятию [1, с. 239; 2, с. 143; 8, с. 134; 10, с. 160, 168]. Например, определяя значение деятельности алхимиков, ученый говорит о языке метафор и аллегорий, т. е. неточном языке, который в силу лимитированности потенциала по упорядочению полученного знания характеризуется как «полумифический» и полный «темных и невразумительных терминов» [6, с. 188; 5, с. 619, 695].
С другой стороны, термины «метафора» и «метафорический» используются как основные характеристики языка вообще, а не только архаического. По словам философа, все выражения языка являются метафорическими, а сама метафора есть основной элемент языка [3, с. 53].
Рассуждая об истоках укорененности метафоры в языке, Кассирер ссылается на М. Мюллера. Вводя понятие фундаментальной метафоры, известный филолог говорит о том, что человек увидел субъектность природы по примеру того, что сам ей обладает: зная один лишь род бытия, а именно свой собственный, и обладая одним лишь языком, человек те же выражения употребил по отношению к природе.
Рассмотрение мира как совокупности субъектов Мюллер называет «проникновением нашего духа в хаос объектов и восстановлением их по нашему образу». Подчеркивается то, что познание мира через призму метафоры требовало высшей степени напряжения, которое можно уподобить сотворению мира, где называние и познание эквивалентны актам созидания [цит. по 7, с. 374‒375; 9, c. 33].
В свою очередь, этот умственный акт способствовал рождению мифологии — мира, созданного по представлениям, которые человек имеет о себе, ключом к рождению которого является метафора, определяемая как превращение субъективного в объективное. Рассмотрение объектов как субъектов подобных человеку создало, по мнению ученого, возможность знать и понимать, представлять и выражать существующий вне человека мир: предметы становились либо одушевленными (анимизм), либо субъектами деятельности (антропоморфизм), либо носителями личности (персонификация) [11, с. 247‒250].
Таким образом, с одной стороны Мюллер декларирует базовый характер метафоры, которая обоснована потребностью человека отразить все возрастающие потребности сознания. С другой — ученый фокусируется на онтологии мифа, описывая его через призму метафоры. Кассирер же, опираясь на тезис о базовом роли метафоры в языке, говорит о том, что сам «язык по самой своей природе и сущности метафоричен». Но при этом добавляет, что метафоричность является вынужденной, вытекающей из невозможности описывать вещи прямо. В качестве примера приводятся абстрактные понятия из религиозной сферы, которые могут быть выражены лишь метафорически [5, с. 569, 577].
Метафоричность языка по Кассиреру больше, чем одно из его свойств. Декларируя то, что миф и язык подчинены одним или аналогичным законам развития, ученый выдвигает тезис о том, что в их основе лежит одна и та же форма духовного восприятия, а именно форма метафорического мышления.
Определяя метафору как «сознательный перенос названия одного представления в другую сферу — на другое представление», Кассирер подчеркивает, что каждое из значений остается вполне определенным и самостоятельным, а между ними осуществляется движение представлений, в результате которого одно заменяется другим [7, с. 376].
При этом необходимо отличать привычное нам применение метафоры, при котором уже существуют и осознаются две соотносимые смысловые области и выражающие их языковые единицы, и то, что ученый называет «радикальной метафорой», которая служит условием формирования языка и мифических понятий. Для области языка радикальность проявляется в том, что сам факт означивания предполагает перемещение некоторого содержания в звук, т. е. абсолютно чуждую для него область, а для области мифа — это перемещение определенного впечатления из сферы обычного, повседневного и профанического в ранг
«священного», мифически и религиозно «значимого». При этом наблюдается не просто переход из одной сферы в другую, а образование новой.
Принципиально отметая вопрос о том, что возникло раньше — значение языковая форма или миф, Кассирер констатирует их неразрывную связь, благодаря которой одна сфера может вторгаться в другую и обусловливать ее содержание. Более того, по его мнению, миф и язык называются разными побегами «символического формообразования, происходящими от одного и того же акта духовной обработки, концентрации и возвышения простого представления» [Там же, с. 377].
Изначальной целью этого формообразования является объективация смыслов, посредством которых снимаются внутренние переживания и напряжение, возникающие вследствие столкновения с объектами внешнего мира, где наиболее сильные из них получают выражение в звуках. Таким образом, именно интенсификация чувственного опыта лежит в основе и языкового, и религиозномифологического символизма.
Развивая эту идею, Кассирер рассматривает два способа образования понятий — логически-дискурсивный и лингвомифологический. Понятия первой категории возникают в индивидуальном восприятии и развиваются, выходя за пределы первоначальных границ. Рассматривая генезис впечатления в понятие, ученый характеризует его как «интеллектуальный процесс синтетической дополнительности», при котором происходит объединение отдельного и общего и его последующее растворение в общем.
Сохранение индивидуального в общем происходит за счет видо-родовой иерархии, где общее и включает отдельное, и отличается от него. Каждое понятие, обладая некоторой «сферой» референции, отграничивает его от других понятийных сфер и вместе они могут входить в сферу родового понятия. Сущность синтетической дополнительности проявляется в том, что новые отношения одного понятия с другим ведут не к размыванию границ, а, напротив, к их очерчиванию.
Лингвомифологический способ образования понятий имеет обратный вектор: представление, возникая в сознании, «спрессовывается», в результате чего «отфильтровывается некий экстракт», становящийся «значением». Отличительной чертой подобного генезиса является, по словам Кассирера, наличие точки интенсивности, освещенности, соседствующей с областями, не наделенными языковым или мифологическим «признаком».
Если для понятий, имеющих логически-дискурсивный генезис, основной характеристикой является количество и экстенсивность развития, где каждая единица сохраняет свою дистинктивность, то для «лингвомифологических» понятий основной характеристикой является интенсивность смысла, т. е. качество. Здесь вид репрезентативен роду, «заключая в себе силу целого, его значение и действие» [Там же, c. 379] и наоборот. Приводя разнообразные примеры магических верований, Кассирер указывает на то, что тождество вида и рода, части и целого основано на духовной сущности мифа, где репрезентативность сущности осмысляется как подлинная идентичность.
Развивая идею Квинтилиана о том, что метафора не является частью языка, а скорее пронизывает всю человеческую деятельность, Кассирер называет ее од- ним из «конститутивных условий существования языка» [Там же, c. 381], поскольку ее механизм совпадает с лингвомифологическим способом образования понятий.
Концентрация смысла, производимая в различных содержаниях и разными способами, может приводить к тому, что в двух перцептивных комплексах один и тот же момент будет выделяться как «существенный» и между этими комплексами может возникнуть тесная связь. Важным аспектом является то, что одинаково названное кажется одинаковым, поскольку подчеркивает закрепленные в слове признаки и заставляет отступить в тень прочие аспекты представлений, приводя к их исчезновению.
Другим важным аспектом является взаимодействие мифа и языкового значения: миф, получая языковое выражение, каждый раз «оживает» как только употребляется определенное слово, тем самым обогащая миф. Постоянное взаимодействие и взаимопроникновение мифа и языка доказывает единство духовного начала, из которого они оба происходят, различными выражениями и ступенями которого они являются.
Развитие языка приводит к его отрыву от мифа, и его единицы постепенно становятся лишь знаками понятий. Однако в сфере культуры находятся другие области, в которых оживают мифологические модели мира, например искусство, в пределах которого язык воссоздает идеальное, духовное единство искусства и мифа на новой основе. Здесь слово не только сохраняет свою изначальную изобразительную силу, благодаря которой происходит отождествление разных понятий [Там же, с. 383].
Рассматривая особенности онтогенеза и филогенеза человека, Кассирер указывает на ведущую роль языка, через призму которого становится возможным предметное представление мира. Механизм метафоры позволяет смоделировать начальные этапы развития языка в обществе, например, перенесение своего опыта на взаимоотношения с другими индивидами. И главнейшую роль здесь играет метафора, являясь неотъемлемым элементом языка, без которого он сделался бы безжизненным и застыл бы в некую условную знаковую систему [3, с. 53].
В связи с этим особенно интересны выводы Кассирера, сделанные по результатам наблюдений за симптомами афазии, к которым среди прочих относятся непонимание метафор и, соответственно, неумение ими пользоваться. Здесь метафора выступает не только в аспекте расширения семантики высказывания, а как когнитивная опора, позволяющая говорить о вещах, не представленных в наблюдении [10, с. 171, 195, 196].
Тем самым метафора выступает как один из основных паттернов символического поведения. Метафоричность характеризует как природу, так и сущность языка, которая проявляется в косвенных способах описания и передаче абстрактных идей [4, с. 216; 5, с. 569]. Метафора выступает как идеальное средство деятельности, расширяя когнитивные и коммуникативные возможности человека, а вместе с тем и коммуникативный и культурный потенциал всего общества.
Суммируя приведенные выше аспекты осмысления метафоры, можно отметить некоторую противоречивость в отношении онтологии метафоры. С одной стороны, метафора предстает как один из ключевых элементов языка, поддержи- вающим его функционирование, а сама метафоричность называется обусловленной из-за семантической ограниченности языка.
С другой стороны, ученый, предлагая дефиницию метафоры, определяет ее как форму духовного восприятия (или форму символического формообразования), лежащую в основе языка и мифа. В этом ключе подчеркивается, что метафора является условием существования языка, функционируя как механизм возникновения и поддержания межэлементных связей языка и мифа. Более того, на данном этапе филогенеза человека метафора выступает как средство деятельности, являющееся обязательным для полноценной реализации когнитивнокоммуникативного потенциала человека.
При этом нельзя сказать, что речь ведется о разных феноменах. Скорее всего, мыслитель касался предмета метафоры в рамках своих исследовательских задач, при этом не ставя своей целью раскрытие ее онтологической сущности — принадлежит ли она человеческому сознанию или является внешней по отношению к индивиду.
Список литературы Аспекты осмысления метафоры у Э. Кассирера
- Кассирер Эрнст. Джованни Пико делла Мирандола. К исследованию истории идей Ренессанса // Избранное. Индивид и космос. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. С. 227‒270. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Индивид и космос в философии Возрождения // Избранное. Индивид и космос. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. С. 7‒206. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Логика наук о культуре // Избранное. Опыт о человеке. Москва: Гардарика, 1998. С. 7‒154. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Место Фичино в интеллектуальной истории // Избранное. Индивид и космос. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. С. 207‒226. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Избранное. Опыт о человеке. Москва: Гардарика, 1998. С. 440‒723. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Понятийная форма в мифическом мышлении // Избранное. Опыт о человеке. Москва: Гардарика, 1998. С. 183‒251. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Сущность и действие символического понятия // Избранное. Индивид и космос. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. С. 271‒436. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Т. 1. Язык. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2002. 272 с. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Т. 2. Мифологическое мышление. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2002. 280 с. Текст: непосредственный.
- Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Т. 3. Феноменология познания. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2002. 398 с. Текст: непосредственный.
- Мюллер М. Наука о мысли. Санкт-Петербург: Тип-я Н. А. Лебедева, 1891. 474 с. Текст: непосредственный.