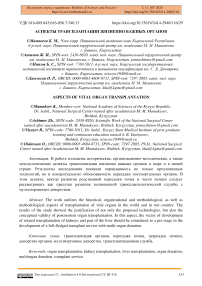Аспекты трансплантации жизненно важных органов
Автор: Мамакеев К.М., Ашимов Ж.И., Ниязов Б.С., Динлосан О.Р.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе изложены исторические, организационно-методические, а также методологические аспекты трансплантации жизненно важных органов в мире и в нашей стране. Результаты исследования показали оправданность не только предложенных технологий, но и концептуальную обоснованность пересадки постмортальных органов. В этом аспекте, вектор развития родственной пересадки почек и части печени следует рассматривать как предэтап развития полноценной трансплантологической службы с мультиорганным донорством.
Трансплантация органов, пересадка почки, пересадка печени, донорство органов, мультиорганное донорство, трансплантационная служба
Короткий адрес: https://sciup.org/14133341
IDR: 14133341 | УДК: 616-089.843:616-056.7:340.13 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/29
Текст научной статьи Аспекты трансплантации жизненно важных органов
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
УДК 616-089.843:616-056.7:340.13
Сейчас мир переживает эпоху трансплантационной медицины. Уровень развития трансплантологии в странах мира давно уже стал индикатором, отражающим качество оказания медицинской помощи и степень развития государства в целом [1].
Отмечается рост трансплантационной активности с применением новых иммуносупрессантов, прогресс в организации донорского процесса, оптимизация консервации органов, расширение показаний к донорству и перечня пересаживаемых органов, новые подходы в оперативной технике и иммунологическом мониторинге [2]. В этой связи, представляет интерес исторические, организационные, методологические аспекты пересадки жизненно важных органов (ЖВО)
Результаты и обсуждения
Работа представляет собой реферативно-исследовательский обзор истории развития пересадки ЖВО, как в мире, так и в Кыргызстане. История клинической и экспериментальной пересадки ЖВО уже превысил 100 летний рубеж. Э. Ульман (Австрия, 1902) выполнил первую пересадку почки собаки на шею козы. А. Каррель (Нью-Йорк, 19051912) провел серию экспериментальных пересадок почек [3].
-
В. Ф. Войно-Ясенецкий (1924) осуществил вынужденную пересадку почки козы человеку с терминальной уремией.
Важно отметить, что Ю. Вороной (Харьков, 1933) выполнил первую в мире пересадку почки от человека человеку. Д. Мюррей (США, 1954) выполнил первую успешную родственную пересадку почки [4].
-
В. С. Карпенко (Киев, 1969-1972) провел 35 экспериментальных пересадок почки. В 1972 г он провел 3 родственных пересадок почки. В 1973 г выполнена успешная пересадка почки от донора со смертью мозга [5]. В эти годы выживаемость реципиентов составляла 30% [6].
История, охватывающая более 50 лет свидетельствует, что вторым по частоте пересаживания ЖВО является печень. Томас Старлз (США, 1963) осуществил первую попытку клинической пересадки печени, а к началу 80-х годов он уже имел опыт >170 пересадок печени. В настоящее время в Институте трансплантации Томаса Старлза (Питтсбург, США) ежегодно выполняется >600 подобных операций. В Европе первая успешная пересадка печени была произведена в Кембриджском университете (1967). В России первую трансплантацию печени в клинике осуществил А. К. Ерамишанцев (1990). По данным С. В. Готье, Chapman J.R et all. до 2000 года в мире произведено около 100 000 трансплантаций печени При этом 5-летняя выживаемость пациентов составила >75-80%. Причем, 40% пациентов живут >20 лет. В Украине первая операция по трансплантации печени была проведена А. С. Никоненко (1994). М. Тутченко (2000) предпринял попытку пересадки печени от трупного донора. В.Ф. Саенко (2001) провел родственную пересадку доли печени. В. П. Демихов (1947) впервые продемонстрировал техническую возможность трансплантации легкого. J. Hardy (Джексон, США, 1963) после 400 трансплантаций легких в эксперименте выполнил первую пересадку легкого в клинических условиях [7].
В 1963-1969 гг. в мире было выполнено >20 трансплантаций легких. D. Cooley (США, 1968) впервые выполнил пересадку сердечно-легочного комплекса [3]. J. Haglin (Миннеаполис, США, 1970) впервые произвел пересадку двух легких больному с эмфиземой легких.
Hosenpud J. D., et all. (1999) упоминал о том, что успешное функционирование трансплантата в течение года отмечается у 70% реципиентов. По статистике в США уже в 2001 году произведены >1 тыс. пересадок легких. Эксперименты по трансплантации сердца начались в середине 50-х годов. К. Барнард (Кейптаун, 1967) провел первую ортотопическую пересадку сердца. Уже спустя 5 лет после этой операции выживание больных с трансплантированным сердцем возросла на 50%. Об этом писали Constanzo M. R., et all., Hosenpud J. D., et all. [8].
-
А. А. Вишневский (1968) осуществил первую в СССР операцию по пересадке сердца человеку, а в 1987 году В. И. Шумаковым (Москва,1987) выполнена первая успешная пересадка сердца. В настоящее время операции по пересадке сердца выполняются в >250 центрах трансплантации во всем мире. Выживаемость в течение года составляет 73-91%. В целом, трансплантационная хирургия в мире развивается настолько быстро, что число пересадок ЖВО на рубеже XX и XXI веков достигло 40 тыс. в год. В первой четверти века прогнозировали, что пересадка будет составлять 50-60% всех операций. Об этом писал в свое время В. И. Шумаков (2001). По его данным в начале 2000 года среднее количество доноров на 1 млн. населения составило 17,8.
Самое большое количество мультиорганных заборов (27 на 1 млн. населения) выполнялся в Испании. Уже с середины 2000-х годов второе место по частоте пересадки органов занимает КНР. По статистике проводятся 15-20 тыс. пересадок ЖВО. В частности, по данным 2003 года в стране проводилось >3 тыс. пересадок печени в год. Среди трансплантологов отношение к родственной трансплантации печени неоднозначно, так как это направление предполагает выполнение значительной по тяжести и риску хирургической операции у здорового человека (донора).
В настоящее время организация сколько-нибудь действенной системы трупного органного донорства ЖВО представляет собой скорее социально-этическую, нежели медицинскую проблему, и вероятность ее решения в ближайшие годы невелика [9].
Известно, что уже первые попытки трансплантации ЖВО, мир воспринял довольно скептически, расценивая этот метод лишь как метод временного протезирования функции тех или иных органов у тяжелобольных. В этическом и психологическом плане, поворотным моментом в пересадке ЖВО стал 1967 год, когда произошли два события в мире: во-первых, Кристиан Барнард (ЮАР) осуществил пересадку сердца, а, во-вторых, Томас Старлз (США) -пересадку аллогенной печени [10].
Надо подчеркнуть, что именно после этих операций по пересадке органов кардинально изменилось отношение общественности и специалистов к трансплантации ЖВО. Спустя много лет с той поры заговорили о том, что если и говорить о пределах допустимости трансплантации ЖВО, то следует отметить, что при определении пределов допустимости любого относящегося к медицине и здоровью человека лечебного метода следует руководствоваться теми же принципами пропорциональности целей: во-первых, чем больше значение поставленной цели, тем выше степень допускаемого риска; во-вторых, неудача лечения, даже случайная, не должна угрожать пациенту более, чем его болезнь. А между тем, это уже этико-правовая проблема [11].
В настоящее время определяющим принципом трансплантации ЖВО является положение о том, что согласие больного (реципиента) есть важнейшая правовая предпосылка осуществления трансплантации, независимо от вида ее по признаку: а) ex mortuo (от трупа); б) ex vivo (от живого человека). Если реципиент не согласен, трансплантация недопустима [12]. Действительно, согласие реципиента — это юридическое действие, а волеизъявление — составной элемент этого действия, следовательно, основой согласия реципиента является выражение воли повергнуть себя трансплантации.
За истекшие годы трансплантация ЖВО из полутехнологии превратилась в общепризнанный, радикальный метод лечения тяжелобольных [13]. И если в высокоразвитых странах пересадка ЖВО носит поточный характер, в среднеразвитых — пока штучный, а в слаборазвитых, как Кыргызстан — только осмысливается и внедряется. В центре внимания должны быть интересы лишь больного человека. А между тем, это этический постулат. В международной конвенции «О защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины», принятой на Совете Европы зафиксировано положение: «Изъятие органов и тканей у живого донора в целях пересадки может осуществляться лишь в интересах лечения реципиента и в случае отсутствия пригодных органов или тканей ex mortuo и альтернативного метода лечения с сопоставимой эффективностью». Нужно отметить, что этот постулат не раз повергался сомнению именно из-за наличия противоречия между правом и медициной [14].
Безусловно, позиция о том, что необходимость все оправдывает и что нет абсолютной ценности жизни, противоречит убеждениям прогрессивных людей, которые считают, что решение всех вопросов права, в том числе трансплантологического, должно иметь в своей основе незыблемые для нашего общества принципы гуманизма и охраны человека. Именно исходя из этих соображений были внесены дополнения о том, что «Интересы и благо человека превалируют над интересами общества или науки», что соответствует статье вышеназванной международной конвенции.
Среди всех аспектов пересадки ЖВО важное место занимает аспекты трупного донорства. Как известно, одной из важнейших проблем пересадки жизненно важных органов (ЖВО) является заготовка и использование трупных органов. Между тем, до сих пор, неоднозначны людские мнения об этой проблеме. В этой связи, наше общество продолжает нуждаться в серьезной разъяснительной работе вокруг вопроса об осмыслении смерти не только своего, но и родных, близких и вообще человека и, через это осмысление, получить позитивную поддержку от них в вопросах заготовки и использования органов после кончины человека [15].
Все авторы солидарны в том, что очень важно как можно раньше начать манипуляции по забору ЖВО из тела Brain-Dead Donors (B-DD) — донора с констатированной смертью мозга или Non-Heart-Beating Donors (N-H-BD) — донора с «небьющимся сердцем», ибо именно в этом залог успешности пересадки. Между тем, проблема заготовки ЖВО от трупа (ex mortuo) для Кыргызстана (КР), да и в целом для стран всего Центрально азиатского региона, в силу ментальности народов, является особенно трудной, — подчеркивают И. А. Ашимов, Ж. А. Ашимов. Это можно судить даже по тому, что, в свое время, не удалось убедить депутатов Жогорку Кенеша КР о необходимости внести поправку в Закон КР «О трансплантации органов и/или тканей человека» о возможности забора ЖВО ex mortuo для целей трансплантации спустя 30 минут с момента констатации биологической смерти.
Известно, что трупные ЖВО могут быть изъяты из тела B-DD, N-H-BD в целях трансплантации в том случае, если: во-первых, получено согласие всех заинтересованных лиц в соответствии с законом; во-вторых, нет оснований полагать, что покойный возражал бы против удаления органов даже в случае отсутствия его официального согласия, данного при жизни. Так записано во многих законах, регламентирующих трансплантационную практику. Между тем, как утверждают многие исследователи, при этом нарушается принцип социальной справедливости «Не укради!».
В вышеуказанном плане, к сожалению, «Закон об охране здоровья в Кыргызской Республике», Закон КР «О трансплантации органов и/или тканей человека» не гарантирует правовую защиту от этого ни врача, ни его обреченного пациента, ни ушедшего из жизни человека. Получается так, что при рутинном заборе медики незаконно, то есть «крадут» орган у B-DD, N-H-BD. Потому, согласно «принципа презумпции согласия» и «принципа
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 презумпции несогласия», морально-этический стандарт трансплантационной службы должен быть по справедливости закреплен в Законе КР, а не в ведомственных нормативах Министерства здравоохранения КР (МЗ КР) [12].
Очевидно, без решения вопросов МОД нельзя кардинально решить вопрос о дефиците ЖВО для пересадки. Мировая потребность в донорском материале по сравнению с началом 90-х годов прошлого столетия удвоилась и по самым скромным подсчетам продолжает ежегодно увеличиваться на 15% [12]. По их данным, даже в 2000-х годах только в экономически развитых странах примерно 15 тыс. человек нуждались в пересадке донорских ЖВО.
До 2000 года в развитых странах, так называемые «листы ожидания» были огромны. В частности, в США и в Великобритании лишь 10% тяжелых больных имели шанс дождаться трансплантации соответствующих ЖВО. За прошедшие годы с тех пор, разумеется, ситуация обострилась еще больше. Таким образом, во всем мире число больных, нуждающихся в пересадке ЖВО, постоянно растет. Пересадка ЖВО ex mortuo помимо чисто научных и клинических аспектов поднимает ряд фундаментальных морально-этических проблем, в том числе касающихся отношения человека к своему телу. В настоящее время предметом широких обсуждений ставятся такие, казалось бы, на первый взгляд необычные вопросы, как право индивидуума на свое тело после смерти и право на изъятый орган. Субъектами, в пользу которых может отчуждаться это право с момента изъятия органа из тела B-DD, N-H-BD, могут являться конкретные лица — родственники донора, врачи, осуществлявшие пересадку, медицинские структуры, задействованные в процессе получения органа и его пересадки [1].
Жизнь и практика показывает, что особенно много споров возникает относительно того, как должно устанавливаться согласие на изъятие ЖВО для пересадки. Следует отметить, что в разных странах существуют разные системы установления согласия. Одна из них основывается на так называемом «принципе презумпции согласия». Опыт показывает, что в странах, где принят этот принцип, получение донорских ЖВО облегчено по сравнению со странами, опирающимися на «принцип презумпции несогласия».
Нужно отметить, что недостаток системы, базирующейся на «презумпции согласия», заключается в том, что люди, неосведомленные о существовании такой нормы, автоматически попадают в разряд согласных. Чтобы избежать этого, отказ выступать в качестве донора фиксируется в особом документе — «карточке не донора», которую человек должен постоянно иметь при себе. В связи с такой ситуацией возникает неопределенность такого характера.
Поскольку законодательство не обязывает медиков устанавливать контакт с родственниками умершего и выяснять их мнение относительно изъятия ЖВО, то фактически родственникам не представляется возможности принять участие в решении вопроса. В этой ситуации, к сожалению, сами медики оказываются в щекотливом положении, ибо родственники и близкие, узнавшие об изъятии ЖВО ex mortuo без их согласия, могут привлечь медиков к судебной ответственности за нарушение прав B-DD, N-H-BD [11].
Другая проблема связана с самими медиками. В частности, медицинские работники, в особенности трансплантологии, по своему интерпретировали и всегда позитивно воспринимали слово «смерть служит продлению жизни», считая, что в современном обществе это является реализацией высокогуманной идеи сохранения жизни обреченному больному за счет B-DD, N-H-BD. Между тем, всегда надо иметь в виду то обстоятельство, что медики, в особенности трансплантологии, являются заинтересованной стороной в деле использования донорских ЖВО.
Следует подчеркнуть, что во времена резких трансформаций взглядов людей и общества возникла опасная тенденция, отдающая приоритет «частному интересу и пользе» перед «универсальным благом», которые наполнены следующим конкретным содержанием: понятие «частный интерес» представляет заинтересованность реципиента и трансплантолога в получении донорского ЖВО, а понятие «универсальное благо» — сохранение такого условия человеческих взаимоотношений, как «смерть служит продлению жизни». Между тем, есть место сомнению в безупречной нравственности такого аргументационного подхода.
Как известно, допускают два варианта или формы возможных изменений морали и этики: 1) Отрицание моральных норм; 2) Соглашательство с новыми приоритетами. Если первое понятно, то второе нуждается в следующем пояснении: видоизменение морального сознания сопровождается с появлением новых аргументационных установок, изменения стиля аргументации. В указанном аспекте, «принцип презумпции согласия», отраженный в Законе КР «О трансплантации органов и/или тканей человека», по мнению И.А. Ашимова и соавт., есть проявление «частного интереса», но завуалированная благим намерением сделать доброе в отношении другого субъекта. В настоящее время спрос на донорские органы и ткани значительно превышает предложение.
Согласно сводным данным, в мире проводится ежегодно около 500 тыс. пересадок ЖВО. По некоторым оценкам, лишь 20–30% очередников доживают до операции по пересадке органа. Вопрос же добровольного согласия на изъятие ЖВО у B-DD, N-H-BD, а также их родных и близких для спасения обреченных больных пока не решается. Вот в этом заключается трагизм современной социокультурной ситуации во многих развивающихся странах мира [10].
На наш взгляд, примечательным является позитивная эволюция религии к запросам трансплантационной практики. В частности, христианская и мусульманская мораль считает совершенно недопустимым нарушение свободы человека: «Добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости изъятия органа или ткани. В случае, если волеизъявление потенциального донора (ПД) неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам», — гласит в соответствующей христианской энциклике и мусульманской фатве. Следует сделать такое допущение, что, даже не думая о смысле смерти, отгоняя саму мысль о ней, родственники и близкие умершего действуют в условиях выбора так, как если бы они учитывали в своих действиях это следствие.
Именно от коллективного и индивидуального осмысления смысла смерти (не только своего, но и родных, близких и вообще человека) зависит, в конечном счете, стратегия поведения человека в пользу того, чтобы пожертвовать органами умершего в благородных целях спасения жизни другому человеку. В целом, приобретает особый смысл прогнозирования процесса решения вопроса об органном донорстве, в том числе и в нашей стране. И если говорить всерьез о степени подготовленности современного общества к восприятию требований трансплантационной практики, а именно использование ЖВО ex mortuo, то следует признать, что наступает время пересмотра декларативного гуманизма в пользу выдвижения и укоренения аргументов для дачи согласия на изъятие ЖВО человека после его кончины для целей пересадки их безнадежно тяжелому больному.
Имеется необходимость разработки правового предписания о согласии донора, несмотря на то, что, с точки зрения охраны личных прав, необходимо признать за донором право на части его собственного тела. По данному вопросу при трансплантациях ЖВО ex mortuo часто возникают большие противоречия между правом и медициной. Право должно урегулировать также вопрос о том, какие правомочия принадлежат родственникам умершего в принятии решения об изъятии донорского ЖВО.
В результате опросов, проведенных еще в 60-е годы прошлого столетия в США и Канаде, было установлено, что количество реально имеющихся донорских ЖВО составляет лишь небольшой процент от требуемого, хотя результаты многочисленных статистических анализов говорят о том, что более 60% опрошенных не против изъятия у них ЖВО после смерти для пересадки нуждающимся реципиентам [17]. На деле, однако, менее половины из них готовы подтвердить это решение документально. Сейчас же отношение к посмертному органному донорству значительно улучшилось. В первом десятилетии нового века большинство опрошенных родственников соглашаются на изъятие органов после констатации смерти своего близкого в результате «смерти мозга», вот почему не менее 60– 85% B-DD используют для получения трансплантатов.
Как отмечалось выше, современная трансплантационная медицина реально должна работать на трупном материале, независимо от B-DD, N-H-BD. Во многих государствах уже ратифицирован «Единый закон об определении смерти» (ЕЗОС), в котором сказано: «человек, который находится в состоянии необратимой остановки функций кровообращения и дыхания или необратимого прекращения всех функций головного мозга, включая его стволовую часть, является мертвым» [9]. Между тем, это послужило существенной защитой медиков, семей доноров и больных, а также прогресса трансплантологии в целом. Ссылка на те или иные законы, благие намерения сохранить жизнь обреченного больного за счет донорских органов следует расценивать как неэтичные.
Следует уяснить, что, по существу, пересадка ЖВО имела непосредственное отношение к правовому регулированию с самого начала внедрения ее в медицинскую практику. Она представляет собой комплекс медицинских вмешательств, который требует до начала практических действий предварительного решения ряда правовых проблем. Об этом указывали многие исследователи данной проблемы. По их мнению, пересадка ЖВО — это не только медико-технологическая, но и медико-социальная и этико-правовая проблема. В настоящее время эта проблема обострилась до предела.
При проведении пересадки органов и тканей, помимо медицинской обоснованности процедуры, необходимо также иметь объективную картину пригодности ЖВО, с одной стороны, а также правильного соответствия между результатом проведенной пересадки и возможным ущербом, который может быть причинен донору, с другой стороны. Причем, как считают многие исследователи и специалисты, приемлемым это соответствие можно считать лишь тогда, когда лечение, приносящее пользу больному, не окажет вреда донору в таком же или еще большем размере.
В целом, введение в широкую клиническую практику пересадки ЖВО, организация в ряде стран «банков тканей» и межнациональных трансплант-систем вызвали необходимость правового регулирования всей проблемы пересадки тканей и органов в сложном комплексе решения юридических вопросов гражданского, уголовного, религиозного, а также экономического характера.
Что касается организационных аспектов пересадки жизненно важных органов. Как известно, в настоящее время в мировой практике процесс выбора донора по действующему «листу ожидания» осуществляют с помощью компьютерной программы. Отобранные реципиенты включаются в соответствующий «лист ожидания» не только на региональном, межрегиональном, государственном, но и на международном уровне. Иначе говоря, они получают равные права в пределах этих уровней, включая и обмен донорскими трансплантатами между трансплантационными центрами (ТЦ).
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
В Кыргызстане права реципиента гарантированы Законом Кыргызской Республики «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (Раздел 1, ст. 5 и 6: 1) «Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека»; 2) «Согласие реципиента на трансплантацию органов и (или) тканей человека». Следует заметить, принцип реализации вышеуказанного права зависит от специфики трансплантационных программ, прежде всего от результатов иммунологического или генотипического подбора пары «донор-реципиент», от срочности операции, определяемой тяжестью клинического состояния больного.
Вышеприведенная система распределения органов обычно базируется: 1) на профессионализме специалистов по пересадке органов, принимающих данные решения; 2) на их ответственности и доброжелательности. Все авторы солидарны в том, что она вне всякого сомнения должна исключать финансовые или иные конъюнктурные соображения. В этой связи считаем несостоятельными любые предложения по внедрению добровольного прижизненного донорства парных органов с компенсацией, как это принято в Иране и Швеции [20].
По мнению исследователей, важным условием должны стать юридические гарантии для предотвращения возможности преимущественного, коррумпированного доступа к «листу ожидания» или к получению органа в зависимости от финансового или социального статуса больного. К сожалению, права реципиента нарушаются, когда он не имеет доступа к необходимой информации и оздоровительной программе. Это связано с тем, что высокотехнологичная медицина слишком малодоступна широкому населению. В частности, такая ситуация сложилась и в Кыргызской Республике (КР) [2].
Другая проблема для нуждающегося больного может возникнуть из-за того, что в ряде регионов, в которых проповедуется ислам, существует религиозный запрет на изъятие донорских органов у умерших, поэтому больные вынуждены обращаться в трансплантационные центры других стран. Такая ситуация имеет место и в ряде стран-участниц СНГ, включая Кыргызстан. Поскольку такие услуги для иностранцев, как правило, являются платными, ТЦ охотно берут больных на коммерческой основе.
Между тем такой подход создает определенную медико-социальную и этико-правовую проблему для всей трансплантологии, объявленной, как известно, вне финансовых требований [18]. Тем не менее, многие исследователи считают полную финансовую компенсацию иностранными гражданами за проведенные им пересадки жизненно важных органов (ЖВО) оправданной и этически допустимой. То есть некая трансформация взглядов на эту проблему все же происходит, что наблюдается в Индии, Пакистане, Иране, Китае и др.
Трудно согласиться с тем, что компенсация, а это в среднем 30–40 тыс. долларов США за пересадку почки, 100–120 тыс. долларов США — сердца, 150–200 тыс. долларов США — печени, как указывается в отчетах, это стоимость самой операции по пересадке, — высказывают сомнения ряд авторов. Уже давно констатировано, что пересадка ЖВО — это бизнес и сверхприбыльная коммерция. Между тем, как отмечалось выше, Европейское общество трансплантологов приняло решение о том, что «Продажа органов живых или мертвых доноров не может быть оправдана ни при каких условиях». Был также принят соответствующий «Национальный акт» в США [2]. Однако позже Всемирная медицинская ассамблея на своем заседании обсудила вопрос о развитии торговли жизнеспособными почками из развивающихся стран для операций в Европе, США, странах Индокитая, Ближнего Востока.
Конференция министров здравоохранения стран Европейского Сообщества наложила запрет на коммерческое использование человеческих органов и записала в решении:
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
«...человеческий орган не должен предлагаться с целью получения доходов какой бы то ни было организацией, занимающейся обменом органов, банком человеческих органов или любой другой организацией или индивидуальным лицом». Между тем, как считают многие исследователи, нет никаких гарантий, что вопрос коммерциализации органного донорства не станет вопросом времени [3].
Следует отметить, что мировая практика ТЦ считает, что не должна запрещаться оплата разумных расходов за медицинские услуги, связанные с предоставлением донорского органа, его хирургическим изъятием, хранением, селекцией и распределением для трансплантации. Они подчеркивают, что денежная компенсация берется за услуги, но не за орган. Однако донорский орган все-таки где-то покупается.
Трансплантация может сопровождаться и рядом других нарушений законов о пересадке ЖВО: 1) подделка документов; 2) участие врачей, констатировавших смерть донора, в последующих операциях по извлечению трансплантата и его пересадке реципиенту; 3) нарушение принципа коллегиальности в решении ряда вопросов трансплантации и прочее. Согласно УК КР (ст. 126), «неоказание помощи больному без уважительных причин лицом медицинского персонала, который обязан согласно установленным правилам оказывать помощь», является преступлением.
Степень наказания усиливается, если деяние «повлекло или заведомо могло повлечь смерть больного или иные тяжкие последствия». Это касается прежде всего лиц, нуждающихся в первой неотложной помощи в связи с несчастным случаем или внезапным заболеванием, опасным для жизни. Однако необходимость в лечении посредством трансплантации может возникнуть не только в связи с указанными причинами, но и, что гораздо чаще, в связи с хроническими, медленно развивающимися заболеваниями, лишёнными свойства внезапности.
Абсолютное большинство исследователей считают, что большинство уже имевших место пересадок ЖВО выполняются не в связи с острым заболеванием реципиента, а в результате длительной хронизации патологического процесса. В этом аспекте УК КР требует в будущем внесения соответствующей поправки. Следующим пунктом может считаться врачебная ошибка, связанная с ненадлежащим выполнением пересадки ЖВО, повлекшим за собой смертельный исход либо причинение вреда здоровью. При этом, как рекомендуют многие исследователи, нужно уяснить то обстоятельство, что состояние медицинской науки в области трансплантации на сегодняшний день таково, что детально отработана техническая сторона многих операций, обеспечивающих успех при пересадке органов.
Между тем, не следует сбрасывать со счетов то, что успешный результат самой операции всегда является более или менее временным, поскольку дальнейшая судьба больного зависит от постоянного в течение последующей жизни применения иммунодепрессивных средств, направленных на задержание процесса отторжения чужеродного органа. Безусловно, это должно учитываться при определении наличия или отсутствия врачебной ошибки в области трансплантации.
Нужно отметить, что ответственность лица, выполняющего пересадку ЖВО, за усугубление здоровья или наступление смерти возникает лишь тогда, когда: 1) трансплантация была выполнена не по правилам; 2) если между установленным нарушением правил и отрицательным исходом существует причинно-следственная связь; 3) трансплантолог виновен в наступлении нежелательных последствий [4].
Уместно напомнить, что существуют две особенности врачебной ошибки при пересадке ЖВО: 1) поскольку операцию имеет право выполнять только определенный круг высококвалифицированных специалистов, абсолютно исключается ссылка на незнание,
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 вызвавшее ошибку; 2) пересадке ЖВО присуща особая специфика — она выполняется у обреченного больного как последний шанс, а потому исход зависит от многих причин, независящих от личности врача. Вероятно, когда нет нарушений установленных правил безопасности операции, следует говорить о врачебной неосторожности. Напротив, заведомо ложная констатация смерти донора, являющегося жизнеспособным и не получающего медицинской помощи с целью использования его ЖВО, ничем не отличается от умышленного убийства.
При пересадке ЖВО общественно опасные деяния возможны при оформлении документации: 1) заключение о необходимости пересадки; 2) удостоверение согласия или несогласия реципиента на операцию; 3) заключение о смерти предполагаемого донора и другие записи в истории болезни. Исключительно при выполнении врачом организационнораспорядительных функций. Об этом писал еще Кирпатовский И.Д. В таких случаях следует говорить о злоупотреблении служебным положением либо о халатности.
Следует отметить, злоупотреблением служебным положением, халатностью, преступлением или проступком являются: 1) нарушение принципа коллегиальности при решении вопросов трансплантации; 2) участие врачей, констатировавших смерть донора, в последующих операциях по извлечению трансплантата; 3) допуск к пересадке лиц, не имеющих соответствующего права; 4) необоснованный отказ врача или эксперта предоставить трансплантат; 5) санкционирование использования органов от лиц, которые не могут быть донорами.
Возвращаясь к историческим аспектам, следует отметить, что первая родственная пересадка почки в нашей стране была выполнена 16 июня в КНИИХСТО под контролем Э. Орозаукнова — нашего соотечественника из Турции. Спустя несколько дней аналогичную операцию провели белорусские трансплантологи с участием хирургов Национального центра материнства и детства (НЦМО).
В период с 2012 по 2015 годы в КНИИХСТО было выполнено ещё 9 пересадок почки на бюджетной основе, а в НЦМО с 2015 по 2022 годы — около 40 родственных пересадок почки на хозрасчетной основе. Самостоятельно хирурги НЦМО начали выполнять такие операции с 2018 года.
Впервые в КНИИХСТО и НЦМО была разработана: 1) «Концепция развития трансплантологической службы в Кыргызской Республике»; 2) подготовлены дополнения и изменения в Закон КР «О пересадке органов и/или тканей»; 3) создано отделение трансплантологии с лабораторией иммунотипирования.
Позже депутат из сферы бизнеса продвигал законопроект, разрешающий трансплантацию в частных центрах. Лишь после публичных обращений коллектива КНИИХСТО Президент наложил вето на этот законопроект.
Несмотря на это, сейчас Указом Президента КР разрешено проводить трансплантацию в частных клиниках, а согласно изменениям в Закон КР «О трансплантации органов и (или) тканей», разрешена родственная пересадка почки в пределах 3–4 поколения родственников. Более того, ведется работа по внедрению добровольного прижизненного донорства почек и части печени с денежной компенсацией донору. Однако конкуренция бизнеса и социальная ситуация в стране через эти нововведения могут подтолкнуть общество к купле-продаже органов.
Основной причиной является отсутствие четкой концепции трансплантации в стране. Не только наше государство, но и все человечество пока больны моральной болезнью: забвение морали и этики, слабая ориентация в многообразии теорий морали. Общество и государство продолжают руководствоваться эрзац-теориями и суррогатными представлениями о справедливости, этике, праве, трансплантации. Это способствует процветанию квазиценностей и мировоззренческих суррогатов типа «Даешь здоровье одному человеку за счет здоровья другого».
Итак, в Кыргызстане дан старт конвейеру родственных пересадок. Однако нам нужен не только сам факт пересадки. Все понимают, что после того, как донор отдал часть «себя» реципиенту, вряд ли он может рассчитывать на качественную жизнь. Пациенты имеют право на жизнь, на квалифицированную медицинскую помощь, — так записано в Законе КР «О здоровье» и в Конституции страны. А если исключить у таких пациентов возможности родственного донорства? Вот в этих случаях, конечно же, нужно трупное донорство. Без этого нельзя говорить о полноценной трансплантационной службе. Государству такую службу нужно сформировать, а не умножать число больных с израсходованным естественным ресурсом жизнеобеспечения. Нужно пересмотреть пункты кыргызского законодательства, касающиеся трупного донорства. Логика такова, что настоящая трансплантология — это полноценный комплекс трансплантационной службы с использованием технологии пересадки трупных органов и тканей, а не от живого донора.
Так или иначе, в стране до сих пор нет серьезного государственного подхода к развитию трансплантологии на программной основе. А ведь нужно: 1) адекватное и целевое финансирование ТС; 2) современная структуризация ТС; 3) создание самостоятельной службы мультиорганного донорства (МОД); 4) системная диспансеризация больных, представляющих собой потенциальных реципиентов; 5) создание необходимых условий (диагностика, типирование, технологически оснащенные операционные и манипуляционные, стерильные послеоперационные палаты, криобиокомплексы, реестры национального пула потенциальных реципиентов и доноров, супрессоры, антибиотики, питание, искусство выхаживания и др.).
Нужно признать, что ТС — это самая дорогостоящая и высокотехнологичная служба во всем мире, а самой главной проблемой трансплантационной медицины является дефицит трансплантатов. В этом аспекте одним из приоритетов в развитии полноценной службы является развертывание программы МОД. В противном случае медики, которые будут вынуждены обходиться ресурсами живых доноров, всегда будут, к сожалению, нарушать главную медицинскую заповедь «Не навреди!». Ведь при родственной трансплантации «вместо одного больного мы всегда будем получать двух больных», что противоречит принципам медицинской оптимологии, праксиологии, культурологии.
Естественно, могут возникнуть вопросы: а что делалось для того, чтобы трансплантология у нас развивалась? Имел ли место системный подход к развитию или опять-таки ограничивались энтузиазмом отдельных лиц и коллективов в продвижении? Вот ответ скептикам. Одним из первых на проблему организации системной ТС в Кыргызстане обратили внимание сотрудники НХЦ, выставив на обсуждение расширенного заседания Ассоциации хирургических обществ КР (АХО КР) авторский медицинский проект «Трансплантация» (профессор Ашимов И. А.), в котором впервые были изложены ключевые положения, а затем и сама «Концепция развития комплексной трансплантологической службы в Кыргызской Республике».
В Проблемной лаборатории клинической и экспериментальной хирургии (ПЛКЭХ) НХЦ, которую учредил и возглавлял Ашимов И. А., был создан сектор трансплантологии. Собрав вокруг себя перспективных выпускников медицинской академии, он приступил к разработке вопросов этой проблемы. За последующие годы трансплантационная группа НХЦ на основе собственных исследований внесла протокольные предложения по развитию практически всех аспектов ТС: 1) разработана стратегия диспансеризации населения с
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 заболеваниями ЖВО; 2) составлены критерии реестра пересадки и национального пула потенциальных реципиентов и доноров; 3) определена тактика иммунопрофилизации реципиентов и доноров; 4) разработана технология танатотерапии пострадавших со «смертью мозга»; 5) проведены исследования по оценке жизнеспособности почечного трансплантата; 6) разработаны меры оптимизации процессов перфузии трансплантата; 7) разработана тактика криоконсервации почек и др.
Таким образом, речь идет о ключевых компонентах комплексной ТС. Об этом можно судить по тематикам (с грифом «С позиции трансплантологии») защищенных диссертаций: Ж. И. Ашимов, Р. М. Эгембаев, Р. М. Сулайманкулов, З. А. Байсеркеев, Э. Т. Омуралиева, К. Б. Абдыкеримов, З. А. Туйбаев, Ш. Т. Абдырахманов, Т. А. Касымбеков. На множестве экспериментов (свыше 300 собак) были обкатаны эффективные, в том числе собственные способы консервирования трупных почек, включая криоконсервацию в условиях моделирования ассистолических доноров. Впоследствии была проведена успешная пересадка почки двум собакам, которых демонстрировали на заседании АХО КР.
Итак, уже в середине нашего века впервые были созданы реальные контуры соответствующих элементов комплексной ТС, со всеми протокольными предложениями: 1) выполнен прогноз национального пула вероятных реципиентов и возможных доноров ЖВО в стране; 2) предложена реальная версия финансового обеспечения ТС. К настоящему времени разработана патофизиологическая концепция оправдания технологий перфузио- и криопротекторной реабилитации трупного почечного аллографта.
Следует отметить и то, что в те сроки впервые была создана трансплантационная бригада, члены которой прошли целевую стажировку по трансплантологии в Алматы, Москве, Египте, Анкаре, Астане.
В связи с открытием КНИИХСТО трансплантационная тематика ПЛКЭХ была закрыта, а докторант Ж.И. Ашимов, как ответственный исполнитель проекта, был откомандирован в КНИИХСТО в приказном порядке. Уже там им была защищена докторская диссертация «Научные основы организации трансплантологической службы в Кыргызской Республике», подготовленная в НХЦ, а также была разработана «Концепция развития трансплантологической службы КР», которая предполагала реализацию службы на программной основе. В качестве внештатного главного трансплантолога МЗ КР он принимал участие во всех совещаниях по развитию трансплантологии в Кыргызстане, в том числе в стенах НЦОМД, ЛОО, НХЦ.
Часть сотрудников во главе с И.А. Ашимовым переключились на разработку вопросов философии трансплантологии. В этом направлении, как в аспекте глубины осмысления, так и широты мысленного охвата её проблем, были достигнуты серьезные успехи. На сегодняшний день разработана специальная теория — «Теория трансплантационной этики».
В деле развития трансплантологии в Кыргызстане нельзя забыть роль и значимость академиков М. М. Мамакеева, М. М. Миррахимова, члена-корреспондента С. Д. Джошибаева. Если М. М. Мамакеев ещё в 50-е годы впервые обосновал технологию пересадки почки на подчревные сосуды, то М. М. Миррахимов разрабатывал протоколы пересадки почек, а С. Д. Джошибаев предложил проект Закона КР «О трансплантации органов и/или тканей», а также учредил и возглавил КНИИХСТО.
Логика такова, что любой из них, а также многие другие не менее амбициозные лидеры отечественной медицины и науки, давно смогли бы внедрить конвейерную родственную пересадку органов. Это касается и нашей бригады. Однако конечная цель была совсем другой — создать реальные предпосылки и довести до совершенства полноценную ТС страны с акцентом на решение дефицита трансплантатов за счет использования
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 постмортальных органов. К сожалению, эту цель пока ещё не удалось воплотить в жизнь. Еще в 90-е годы прошлого столетия исторические, организационно-методические, научнотехнологические аспекты пересадки ЖВО свидетельствовали о необходимости развития в стране полноценной ТС с МОД, то есть с применением постмортальных органов. В НХЦ были созданы две академические группы. Причем задачей первой группы была разработка и реализация научной концепции организации ТС в КР, а задачей второй группы — разработка и оценка реабилитационных технологий с выработкой научной концепции оправдания пересадки ПА ex mortuo от асистолических доноров.
Результаты исследования показали оправданность не только предложенных технологий, но и концептуальную обоснованность пересадки постмортальных ЖВО. В этом аспекте вектор развития родственной пересадки почек и части печени следует рассматривать как предэтап развития полноценной ТС с МОД.