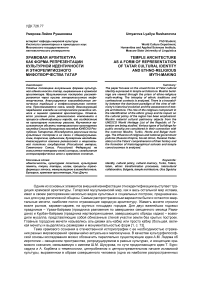Ассоциации художников в период Китайской Республики в контексте социальных и культурных трансформаций
Автор: Люй Чао
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется феномен общественных объединений китайских художников, их генезис, развитие, а также эстетические концепции, порождаемые в этой среде. Появление ассоциаций живописцев в Китайской Республике было результатом сочетания различных факторов, относящихся к социальной, политической, экономической сферам, а также связанных с интеграцией и противостоянием китайского и западного искусства. Подобные образования стали следствием трансформации общества Поднебесной в период республики. Увеличение их количества и особенности развития свидетельствуют о метаморфозах в традиционной живописи Китая и аккумулировании ассоциаций в себе богатой исторической и культурной информации страны. Объединения стали результатом духовного перелома в обществе, следствием демократизации китайской культуры и других сфер, продуктом нового этапа в развитии страны. Изучение феномена ассоциации художников имеет особое значение для более глубокого понимания традиционной китайской культуры.
Ассоциация живописи китая, художественная концепция, визуальная эстетика, социальная трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149134930
IDR: 149134930 | УДК: 008:75.01(510) | DOI: 10.24158/fik.2021.3.18
Текст научной статьи Ассоциации художников в период Китайской Республики в контексте социальных и культурных трансформаций
Одним из основных элементов внешней манифестации этноидентификации выступает традиция храмовой архитектуры. Татарский мусульманский мир, как и весь остальной мир ислама, имел в своем распоряжении несколько видов культовых и социальных построек, предназначенных для нужд религиозной общины. Самым распространенным вариантом были и остаются квартальные мечети, наиболее полно отражающие народную архитектуру. Жамигъ мэчете строили возле рынков, караван-сараев, на крупных площадях городов. Для двух важнейших годовых праздников – Ураза-байрама (праздника разговения по завершении священного месяца Рамадана) и Курбан-байрама (праздника жертвоприношения, завершающего обряды хаджа) – возводили мусалла, представляющие собой обнесенные стеной участки земли без крытых построек. Главные городские мечети назывались аль-джами аль-кабир или просто кабир (большая, великая мечеть) и выделялись размерами и монументальностью форм [1, c. 73].
Тема храмового сознания в отечественной историографии с ее необходимостью отражения разных мировоззрений чрезвычайно актуальна и малоизучена. В качестве культурфилософ-ской основы исследования можно обозначить параллельно существующие идеи А.М. Лидова об иеротопии – священном пространстве, репродуцируемом в разных культурах, и концепцию храмового сознания, связываемую с именем Ш.М. Шукурова, по сути продолжающего идеи Т. Буркхардта и А. Корбена о теменологии, центробежном и центростремительном начале исламской культуры, выраженном в образе совершенного человека (одна из наиболее распространенных светских интерпретаций суфийского учения). Один из немногих исследователей татарской культовой архитектуры Н.Х. Халитов∗ (Халит) настаивает на ее особых мировоззренческих основаниях, которые можно соотнести как с мифологическими, так и с идеологическими.
Например, Н. Халит указывает, что базой храмовой архитектуры татар следует считать кочевое наследие: «Символы кочевья: юрта, кибитка и шатер – это мобильные и веками отработанные передвижные жилища тюрков. <...> Образ юрты стал одним из древних знаков кочевого быта. …Над могилами близких и достойных соплеменники воздвигали вечную юрту – усыпальницу-дюрбе» [2, c. 51]. Выделяя особый вариант поволжских мечетей, исследователь настаивает на их уникальности: «Поволжский тип мечети с минаретом на крыше, в сущности, не встречающийся больше ни у одного народа мира, за исключением тех, куда он пришел с татарскими миссионерами и переселенцами» [3, c. 76]. Вместе с тем ареал бытования этого типа постройки широк, поэтому представляется возможным говорить о сознательной мифологизации истоков национальной архитектуры в целях повышения значимости народа и его вклада в мировую культуру. Признавая, что подобный тип мечети был распространен в Золотой Орде, Н. Халит прибавляет, что, поскольку «сама Золотая Орда исламизировалась под большим влиянием булгар… есть основания предполагать, что она представляет вариант традиционной булгарской мечети» [4, c. 76].
При внешнем взгляде на ту же проблему обнаруживается иная оценка ∗∗ : «Строго говоря, государства, именуемого Золотой Ордой, никогда не существовало. Привычное для нас название заимствовано из русской летописной традиции XVI в. уже после падения Золотой Орды. <…> Преодоление цивилизационной маргинальности Золотой Орды… началось с ускорением в зоне степей городского образа жизни» [5, c. 98]. Очевидно, что одна точка зрения не отменяет другую, но контекстные характеристики существенно разнятся.
Очевидно, что угол зрения (интро- или экстра-) выделяет разные системообразующие элементы. Так, интрообразы базируются на почвеннической позиции этноисключительности, в то время как экстраобразы фиксируют общие глобальные тенденции, носящие более отвлеченный характер. Применительно к теме исследования на высшем уровне можно рассматривать храмовое сознание как таковое. Татарское, ингушское, арабское и иное представление, объединенное общей идеей ислама, будет его составной частью, т. е. иметь центростремительную специфику, определяемую общей для всех мусульман ориентацией на священную Каабу в Мекке. Эта цен-тростремительность особенно наглядна во время коллективной молитвы у Каабы в хадже.
На уровне культурного мышления уместен вывод о внешнем и внутреннем образах, выраженных через культовую архитектуру. Можно сделать предположение, что этническое мировоззрение достраивается его носителями в соответствии с внешней оценкой или недооценкой их значимости на уровне суперэтноса. Так, Н. Халит, ставя во главу угла мусульманскую составляющую, пытается в равной степени сохранить кочевую идентичность тюрков (татары в данном случае интерпретируются как наследники Золотой Орды) и домонгольскую оседлую – булгар (они понимаются как носители наиболее высокой культуры в этом регионе, упор делается на их раннюю исламизацию, совпадающую едва ли не со временами Пророка): «В архитектуре Нового времени образ юрты прямо цитировался при проектировании и строительстве татарских мечетей России» [6, c. 56]. «Разгром в 1552–1584 гг. Казанского ханства… привел национальную культуру булгар на грань полного уничтожения. <…> Последствием всех этих событий стал длительный упадок в татарском монументальном зодчестве» [7, c. 88–89]. В приведенной цитате показательно характерное смешение Казанского ханства (осколка Золотой Орды) и Волжской Булгарии, фактически исчезнувшей под ударами кочевников. Национальные историки настаивают на преемственности разгромленной Булгарии, Булгарского улуса в составе Золотой Орды и самостоятельного Казанского ханства.
Можно предположить, что мировоззрение как само является объектом конструирования, так и, наоборот, закладывает основы идентификационных процессов. Внешний взгляд на историю становления татарского этноса, выраженную чрез артефакты монументального зодчества и декоративно-прикладного искусства, указывает на соединение кочевой культуры монголов (тюркских племен) с культурой завоеванных народов (Великого шелкового пути, Китая, народов Сибири, Поволжья, Крыма). Очевидно, что подобный подход к изучению осколков империи Чингисхана формирует мнение о многочисленных татарских субэтносах (мишарях, сибирских, казанских татарах, кряшенах), что, с одной стороны, сокращает общую численность народа, а с другой – поддерживает культурное многообразие, изначально основанное на межкультурном взаимодействии.
∗ Н.Х. Халитов – д-р архитектуры, куратор возведения мечети Кул Шариф (1996–2005) в Казани, инициатор включения Казанского кремля в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2000).
∗∗ М.Г. Крамаровский – ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, д-р ист. наук, руководитель Старокрымской археологической экспедиции, член редколлегии журнала «Татарская археология», член ICTA (Международного комитета по турецкому искусству).
Изучение булгарского и ордынского наследия имеет свою историографию. Исследователи не демонстрируют единого мнения об этнографическом составе этих государственных образований, едины они лишь в том, что в обоих случаях нельзя говорить о моноэтничности. Также ученые согласны с утверждением об интеграционной миссии ислама. Ш. Марджани убедительно доказал, что история Булгарии неотделима от истории татарского народа, чуть позже в рамках школы Н.Я. Марра идея автохтонности населения возобладала, миграция представлялась абсолютно неважной – так сложилась булгарско-татарская версия этнографии народа.
Политика коренизации элит в рамках культурной революции 1920–30-х гг., ставившей целью разрыв с религиозным прошлым в пользу национального самосознания и создания множества национальных «мифологий», привела (во многом стараниями профессора Н.Н. Фирсова) к осмыслению этапности развития татарского этноса от Волжской Булгарии через Улус Джучи к Казанскому ханству и вхождению в состав России.
Положение резко изменилось после Постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» от 9 августа 1944 г., наложившего запрет на толкование Золотой Орды как важной части истории татарского этноса. Все лакуны было решено заполнить булгарским наследием, «а Улус Джучи рассматривать в качестве чисто внешнего явления для этнической истории татарского народа» [8, c. 13].
Позднее это во многом директивное разделение на булгарско-татарскую и монголо-татарскую (евразийская концепция) парадигму приобрело собственную мифологию. В первом случае упор делался на древность, мудрость, раннее (самое раннее на территории современной России) принятие ислама на государственном уровне и его распространение. В другом – в качестве великого предка предполагался наиболее крупный завоеватель этого периода, создавший огромную империю, система управления которой заложила основы или видоизменила государственность во всех частях империи Чингисхана. Косвенно об этом писал Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского», характеризуя особенности правления Ивана III и Ивана Грозного.
Путем изучения этапов формирования идентичности татар, выстраивания их мировоззрения с максимально абстрагированной теоретической точки зрения рассматриваются маршруты межкультурного взаимодействия, фиксируются пересечения, делаются логичные и очевидные выводы о невозможности создать единую систему градостроительства в силу величины занимаемых Чингисидами территорий, о выработке национальных стилей, частным случаем которых можно считать поволжский.
Совсем иначе эта фактология работает в системе построения уникальной этнической идентичности. Принципиально не разделяются и, возможно, умышленно смешиваются сельджукская и османская традиции. Основа объединения этих двух культур очевидна – тюркское происхождение, преемственность, ислам. Кочевье представляется уже более спорным объединяющим моментом, поскольку в меньшей мере относится к Османам.
Упоминая о греческом и армянском искусстве вскользь, Н. Халит подходит к мысли о вто-ричности и малоценности византийского наследия для Османов, хотя, по-видимому, именно оно и заложило основу так называемой турецкой (купольной) мечети [9, c. 54]. «Правители и знать сельджукского Руми подражали быту иранских и византийских царских дворов. <...> В формировании строительных принципов и стиля османского культового зодчества существенную роль сыграла архитектура храма Святой Софии» [10, c. 93, 103]. «Синан перенял элементы собора Святой Софии и византийской архитектуры <...> Синан заменил традиционные мукарнасы, которые до той поры характеризовали османский стиль системой экседр, заимствованных из архитектуры византийской традиции и Святой Софии» [11, p. 256].
В свою очередь, Н. Халит указывает на шатровые завершения, где образы и мотивы юрты и собственно походного шатра угадываются порой вполне отчетливо. В рамках контекста мусульманского, тюркского, татарского центра повествуется и о ряде построек: мечети на Сенном базаре, Кул Шарифе.
Говоря о мечети на Сенном базаре, Н. Халит обращает внимание на то, что заказчик стремился повторить на казанской земле силуэт Куббат-ас-Сахры. «Иерусалим с самого начала был и всегда оставался не просто храмовым городом, но по преимуществу Городом-Храмом, городом пер-воообразом, наследуя теменологию и эсхатологию евреев и христиан. Согласно же логике предлагаемого сравнения, Куббат-ас-Сахра сопоставлялась со Святая Святых иерусалимского Храма. Храм в Храме – такова была идея мусульман во времена освоения Иерусалима» [12, c. 239]. Иерусалим выступает местом постоянной культурной рефлексии, памяти, самосоотношения, уподобления, самопрезентации в геополитическом смысле. Представляется возможным трактовать этот проект в качестве варианта создания Новых Иерусалимов как в России, так и за ее пределами. Кроме того, видимо, заказчик в равной степени испытывал как желание перенести сакральный артефакт на родную землю, так и рефлексию мессианского тренда доминирующего суперэтноса.
Очевидно и то, что история Храма Храмов (постройки пророка Сулеймана) перекликается с исторической мечетью кабир в Казани, во главе прихода которой стоял легендарный защитник города имам сеид Кул Шариф. Важно обратить внимание на описание того, что осажденные тщетно пытались найти убежище в мечети. Строго говоря, мечеть не обладает этим статусом на правовом уровне в отличие от ранних церквей. В современной массовой культуре данное обстоятельство охотно эксплуатируется в фильмах. Только средневековое церковное право давало церквям выступать в таком качестве, обычай восходит к иудейской традиции: израильтянин мог просить убежища, взявшись за рога жертвенника. Предположительно подобным символическим образом просящий предлагал себя в жертву Богу, следовательно, мог просить о его защите (3Цар. 1:50–53). При описании гибели защитников Казани, очевидно, происходит смешение важного для этнического мировоззрения сюжета об утрате государственной независимости и христианской традиции прославления мучеников, принявших свой конец от рук завоевателей (тюрок) в храме, который осмыслялся как последний шанс на спасение ∗ .
При внешнем взгляде на значение взятия Казани историки обращают внимание на то, что таким образом осуществлялся переход легитимности Золотой Орды через Казанское ханство к Московии. В дипломатической переписке с восточными соседями в XV в. и на протяжении всего XVI в. московские государи именуют себя «белыми царями». Причем, если прозвище «Грозный» перешло от Ивана ΙΙΙ к Ивану IV и закрепилось именно за последним, то в терминологии, касающейся определения «белый царь», произошел обратный процесс – титул, который достался внуку после победы в Казани, исторически перешел и на деда [13, c. 13, 15].
В рамках внутреннего идентификационного кода падение Казани воспринимается как уничтожение Булгара и татарской (следовательно, Булгария и Татария отождествляются) самобытной архитектурной традиции. Внедрение российского стиля и вкуса в зодчество татар привело к формированию городской и сельской эстетики.
Таким образом, рациональный компонент современного этнического сознания позволяет использовать весь историко-культурный опыт для формирования идеологии, самопозициониро-вания, самовосприятия и построения актуальных трендов дальнейшего развития. Современная и историческая храмовая архитектура татар предстает как одна из форм визуализации культурной идентичности.
Интерпретация этнорелигиозного мифотворчества зависит от уровня рефлексии. Интрооб-разы направлены на формирование этнической исключительности. В данном случае храмовое наследие татар представляется уникальным сочетанием кочевой культуры (форма куполов – шатер кочевника) и оседлой (булгарская исламизация). Экстраобразы подаются в более обобщающем ключе, культовые постройки рассматриваются через призму общемусульманского храмового сознания.
Ссылки:
-
1. Халит Н. Татарская мечеть: несколько слов о типологии и этапах развития архетипа // Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.) : материалы всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2006. С. 73–92.
-
2. Халит Н. Отголоски образов кочевого прошлого в архитектуре казанских татар // Известия КазГАСУ. 2011. № 1 (15). С. 51–59.
-
3. Халит Н. Татарская мечеть … С. 76.
-
4. Там же.
-
5. Крамаровский М.Г. Джучиды (1207–1502): три этапа самоидентификации // Во дворцах и шатрах. Исламский мир от Китая до Европы : каталог выставки. СПб., 2008. С. 98–116.
-
6. Халит Н. Отголоски образов… С. 56.
-
7. Халит Н. Татарская мечеть … С. 88–89.
-
8. Измайлов И.Л. Волжская Булгария в IX – первой трети XIII в.: становление социальной, религиозной и этнополитической структуры общества : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2013. 68 с.
-
9. Халит Н. Отголоски образов… С. 54.
-
10. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002. 495 с.
-
11. Yerasimos S. Constantinople: Istanbul’s Historical Heritage. Potsdam, 2012. 400 p.
-
12. Шукуров Ш.М. Образ храма. М., 2002. 496 с.
-
13. Трепавлов В.В. «Белый царь». Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 2007. 255 с.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Ханмамедова Виктория Рамизовна
∗ Сюжет встречается в рассказах о гибели Константинополя от рук турок-осман и Рязани от рук воинов Батыя.
Список литературы Ассоциации художников в период Китайской Республики в контексте социальных и культурных трансформаций
- Ван Бомин. Всеобщая история китайской живописи. Пекин, 2000. 1241 с.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. 7. М., 2013. 863 с.
- Кан Ювэй. Собрание соломенных коттеджей Ван Му. Шанхай, 1918. 207 с.
- Сюй Чжихао. Записи Ассоциации китайского искусства. Шанхай, 1994. 297 с.
- Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры. М., 2014. 556 с.
- Malinowski B. A Scientific Theory of Culture. Beijing, 2002. 97 p.
- Ян Хунчэн. Теория культурных моделей литературных и художественных ассоциаций - исследование культуры современных литературных и художественных ассоциаций Китая. Хэфэй, 1998. 314 с.
- Тан Ситун. Собрание сочинений. Пекин, 1981. 561 с.
- Цяо Чжицян. Географическое распространение и социальное происхождение современной ассоциации каллиграфии и живописи // Журнал Нанкинского университета искусств. 2004. № 3. С. 49-51.
- Линь Му. Исследования китайской живописи в XX веке. Наньнин, 2000. 717 с.
- Featherston M. Cultural Theory and Cultural Change: An Introduction// Theory, Culture & Society. 1992. Vol. 9, iss. 1. P. 7-8. https://doi.org/10.1177/026327692009001001.
- Цзян Даньшу. Обзор современного китайского художественного образования. Ханчжоу, 1991. 443 с.
- Сыма Юньцзе. Теория культурной ценности. Цзинань, 1996. 332 с.
- Woods C. Cultural Change (Elements of Anthropology). Kunming, 1989. 126 p.