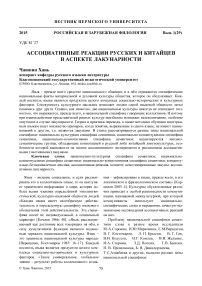Ассоциативные реакции русских и китайцев в аспекте лакунарности
Автор: Хань Чжипин
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Язык - прежде всего средство национального общения, и в нём отражаются специфические национальные факты материальной и духовной культуры общества, которое он обслуживает. Каждый носитель языка является продуктом целого комплекса социально-исторических и культурных факторов. Совокупность культурного наследия позволяет людям одной языковой общности легко понимать друг друга. Однако, как известно, две национальные культуры никогда не совпадают полностью, что выражается, прежде всего, в национальной специфике говорящих коллективов. И потому при взаимодействии представителей разных культур неизбежно возникает недопонимание, особенно ощутимое в случае лакунарности. Теория и практика перевода, а также методика обучения иностранным языкам знает множество примеров, когда понятия, выраженные в одном языке, не имеют наименований в другом, т.е. являются лакунами. В статье рассматриваются разные типы национальной специфики: национально-культурная специфика семантики, национально-концептуальная специфика семантики, национально-коннотативная специфика семантики; анализируются лексико-семантические группы, обладающие коннотацией в русской либо китайской лингвокультурах, особенности которой выявляются на основе ассоциативного эксперимента и реализованы ассоциативными (эмотивными) лакунами.
Национально-культурная специфика семантики, национально-концептуальная специфика семантики, национально-коннотативная специфика семантики, концептуально-безэквивалетная лексика, ассоциативная реакция, немотивированные лакуны, ассоциативная лакунарность, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14729370
IDR: 14729370 | УДК: 81''27
Текст научной статьи Ассоциативные реакции русских и китайцев в аспекте лакунарности
Язык – явление социальное, и если рассматривать его в коллективном плане, то он выступает хранителем информации о мире, которая добыта всеми членами определённой этнолингвистической, культурно-языковой общности людей. «Каждая нация имеет своеобразную действительность и определенную специфику языкового обозначения этой действительности. Эта специфика носит не индивидуальный, а социальный характер» [Комлев 1966: 48]. «Язык, рассматриваемый как достояние всех говорящих на нём, в силу кумулятивной функции является подлинным зеркалом национальной культуры. Язык – это хранитель национальной культуры народа» [Верещагин, Костомаров 1983: 16–17]. Каждый носитель языка является продуктом целого комплекса социально-исторических и культурных факторов. «Такое универсальное, глобальное знание – результат работы коллективного созна- ния – зафиксировано в языке, прежде всего, в его лексическом и фразеологическом составе» [Корнилов 2003: 4]. Культурно обусловленные различия приводят к особой разновидности коммуникации, называемой межкультурной, при которой коммуниканты используют национальноспецифические слова и выражения, зачастую вызывающие несовпадения ассоциативных реакций на них.
Проблему национальной специфики семантики слова в разное время исследовали Ю.А.Сорокин, И.Ю.Марковина, Е.М.Верщагин, В. Г. Костомаров, Л. П. Крысин, В. Г. Гак, В.И. Кодухов, Н.Г. Комлев, В.И. Жельвис, И.А. Стернин, З.Д. Попова, Г.В. Быкова, Н. В. Прощенкова, Б. В. Дашидоржиева, Т.С.Азнабаева и другие, выделяя разные типы национальной специфики:
-
1) национально-культурная специфика семантики;
-
2) национально-концептуальная специфика семантики;
-
3) национально-коннотативная специфика семантики;
-
4) национально-языковая специфика.
С целью выявления ассоциативных реакций у русских и китайцев в течение 2013 г. нами проведен свободный ассоциативный эксперимент среди шестидесяти русскоязычных жителей г. Благовещенска Амурской области, РФ, и такого же количества носителей китайского языка (г. Харбин, провинция Хэйлунцзян, КНР). Возрастная градация опрошенных проводилась по методике Левинсона, описанная в книге И.В. Шаповаленко «Возрастная психология» [Шаповаленко 2004: 294]. В качестве стимула было предъявлено 26 слов отдельных лексикосемантических групп, порождающих полное или частичное несовпадение ассоциаций в русской либо китайской лингвокультурах: волк, медведь, олень, слон, дракон, собака, заяц, крыса, змея, орёл, ворон, сорока, ласточка, бабочка, пчела, лотос, берёза, ромашка, рябина, яблоко, персик, груша, пять, шесть, белый цвет, жёлтый цвет . В процессе эксперимента для получения реакции на каждый из стимулов реципиентам предлагалось назвать первое пришедшее на ум слово. При этом нами фиксировалась, как правило, только первая реакция на предъявленный стимул, которая считается наиболее точной.
Данные проведенных экспериментов показали, что несовпадение ассоциаций обусловлено в первую очередь национально-культурной спецификой семантики. Как отмечает
И.А. Стернин, за разные виды национальной специфики семантики отвечают разные макрокомпоненты значения. Национально-культурная специфика, обнаруживаясь в случаях полной (мотивированной) безэквивалентности или от-сутствия/наличия определенных компонентов значения, обусловленных отсутствием/наличием соответствующих признаков в называемых словом объектах материальной и духовной культуры, сосредоточена в денотативном и эмпирическом компонентах значения [Стернин 1987: 116]. Данный тип национальной специфики определяется тем, что у одного народа нет предмета или каких-либо признаков предмета, которые имеются в материальной культуре другого народа [Бы- кова 2003: 43]. Например, в китайском языке 筷 子 kuaizi – палочки для еды; 四合院 siheyuan – типовой дом старой китайской архитектуры с квадратным двором в центре и расположенными вокруг него четырьмя флигелями; 京剧 jingju – пекинская опера; 月饼 yuebing – лепёшки с начинкой к празднику Середины осени; 粽子 zongzi – кушанье из клейкого риса, обернутое тростниковыми листьями [Быкова, Глазачева 2011: 61]. В русском языке такие слова отсутствуют, потому что в китайском языке они обозначают артефакты, которых нет в русской культуре. Это абсолютные этнографические лакуны в русской лексике сопоставительно с китайской.
И наоборот – в русском языке слова квас, колядка, блин, борщ, авоська, сметана и другие уже обозначают предметы, которых нет в китайской действительности. Поэтому в китайском языке подобные отсутствующие номинации являются этнографическими лакунами, порождающими непонимание в процессе взаимодействия русских и китайцев. Например, слово квас для русского – традиционный национальный напиток, китаец же недоумевает, как его можно пить. Для русского сметана – повседневный продукт питания и почти обязательная добавка ко многим супам, для китайца – это прокисшие сливки, т.е. испорченный продукт. Такие семантические отсутствия (этнографические лакуны) в лексике русского или китайского языков легко объясняются социальными и национально-культурными причинами.
Национально-концептуальная специфика семантики, выявляемая в случае немотивированных лакун и межъязыковых родовидовых несовпадений, сосредоточена в денотативном компоненте и отражает различия, несовпадающие элементы в мышлении соседствующих социумов. Мышление одного народа может обобщить в понятии и закрепить в словесном знаке артефакт или явление, которое другим народом как бы не замечается, хотя объективно существует. Это обусловливает наличие в языке немотивированных лакун. «Концептуальные различия предстают в нашем языковом сознании не как непосредственно культурные, а как мыслительные, концептуальные» [Гудавичюс 1985: 41].
Б. Харитонова, В.Л. Муравьев, И.А. Стернин, С.Д. Кацнельсон и другие исследователи выделяют в особую группу концептуально- безэквивалетную лексику, которой в языке сравнения соответствуют собственноконцептуальные (немотивированные) лакуны. Такой же тип лакун обнаруживается и в китайском языке, где есть однословные обозначения концептов братья и сёстры–兄弟姐妹; друзья детства – 发小; самый богатый человек首富. В русском языке нет специальных лексем, соответствующих по значению данным китайским словам, хотя образы, обозначенные ими, – братья и сёстры, друзья детства, самый богатый человек – существуют у обоих народов. Один язык замечает и лингвистически оформляет те стороны деятельности, которые другой язык предпочитает не выражать. В КНР тоже есть китайцы, которых можно назвать русским словом размазня, неряха, скопидом, дипломник, абитуриент, кумушка, отличник, но подобные однословные эквиваленты в китайском языке отсутствуют.
Китайские лексемы 困 (хотеть спать); 渴 (хотеть пить); 书店 (книжный магазин); 误 解 (неправильно понимать); 锻炼 (все виды спорта, движения, которыми китайцы занимаются в свободное время) в русском языке однословно не обозначены, т.е. выражены немотивированными лакунами, обусловленными национальной спецификой мышления русских и китайцев.
Национально-коннотативная специфика семантики заключается в наличии (или отсутствии) эмоциональной, экспрессивной и оценочной сем в содержании слов и устойчивых выражений русского языка, выявляемых при сопоставлении с единицей языка сравнения. Это проявляется в специфике эмоционального, экспрессивного или оценочного содержания слов сравниваемых языков.
Таблица 1
Реакции на слово лотос ( ^^ ), %
|
Русские |
Китайцы |
||
|
Цветок |
35 |
Чистота |
38 |
|
Порошок |
20 |
Будда |
35 |
|
Болото |
10 |
Благородный человек |
8 |
|
Вода, компания, Китай, Индия и другие |
35 |
Святой |
5 |
|
Розовый цвет, фея, большой лист и другие |
5 |
||
Таблица 2
Реакции на слово персик ( й ). %
|
Русские |
Китайцы |
|
Фрукт 20 Плод 8 Сладкий 8 Вкусный 7 Мохнатый 7 Девушка 7 Осень, Персия, Африка, блин, лето, дорогой, бархатный, дыньки, щечки, тропики, нежный и другие 43 |
Плод 27 Долголетие 17 Торт на день рождения в форме персика 13 Вкусный 11 Обезьяна 11 Консервы из персика, убегать, красный 21 |
Таблица 3
Реакции на слово берёза ( Й ^Ш ), %
|
Русские |
Китайцы |
||
|
Белая |
27 |
Белая |
32 |
|
Стройная |
18 |
Дерево |
24 |
|
Русская |
13 |
Песня |
20 |
|
Дерево |
11 |
СССР |
8 |
|
Дуб |
5 |
Не знаю |
5 |
|
Красиво |
5 |
Красиво |
3 |
|
Лес, высокая, зелёная, сок и другие |
21 |
Альбинизм |
3 |
|
Россия и другие |
5 |
||
Таблица 4
Реакции на слово рябина ( ^Ж^ ), %
|
Русские |
Китайцы |
||
|
Красная |
33 |
Не знаю |
70 |
|
Кудрявая |
17 |
Ягоды |
17 |
|
Куст |
13 |
Красиво, красная, дикий и другие |
13 |
|
Одинокий |
13 |
||
|
Печальный |
8 |
||
|
Горькая |
5 |
||
|
Смородина, колхоз, черёмуха и другие |
11 |
||
Анализ полученных результатов показывает, что в китайском языке слово 荷花 ( лотос ) в отличие от русского эквивалента лотос, кроме общего лексического значения – род двудольных водяных растений, единственный представитель семейства Лотосовых (лат. Nelumbonaceae), – включает в семантическое поле многообразные эмоциональные, оценочные и экспрессивные ассоциации, связанные в сознании китайцев с чистотой, чудесным рождением Будды и т.д. Лотос много тысячелетий является священным символом восточных стран.
Основное и, видимо, исходное значение этого мифопоэтического символа – творящая сила, связанная с женским началом, отсюда – дополнительные символические значения лотоса : лоно как место зарождения жизни; плодородие, процветание, потомство, долголетие, здоровье, жизненная полнота, слава; земля как космическая, самопорождающая суть; спонтанное творение, вечное рождение (божественное, сверхчеловеческое); бессмертие и воскресение к вечной жизни; чистота, духовность, смиренномудрие.
В разных традициях с лотосом связываются также жизнь, чистота, андрогинность, согласие, мечтательность, забвение, мир, тишина, твердость, непрерывность, солнце. Структура цветка лотоса (периферийная, лепестковая часть и центр) символизирует взаимодействие женского и мужского начал (http://www.symbolarium.ru/ind ex [дата обращения: 09.12.13]).
В китайской культуре лотос означает чистоту, совершенство, духовное изящество, мир, женский гений, лето, плодовитость. Кроме того, лотос олицетворяет прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Для китайцев лотос - символ человека благородного, выросшего из грязи, но ею не запачканного [张鹏飞 2009:72-73]. В русском ассоциативном сознании подобные коннотативные приращения к лекси- ческому значению слова лотос отсутствуют. Это объясняется тем, что данное многолетнее водяное растение не распространено в российской флоре, произрастает лишь на юге Дальнего Востока и в дельте реки Волги и потому для русских является редким, экзотическим. Обычно исследователи лакунарности называют подобный тип лакун ассоциативными (эмотивными). Учитывая полное отсутствие коннотаций у лексемы лотос, ставшей, на наш взгляд, причиной отсутствия каких-либо ассоциаций у носителей русского языка, мы называем такую лакуну абсолютной мотивированной ассоциативной лакуной.
Сопоставление реакций на слово персик ( 桃 ) показало, что у китайцев в сравнении с русскими персик ( 桃 ) – не просто сладкий плод с крупной косточкой, но и символ долголетия. В китайском языковом сознании существует ассоциация персик – обезьяна . Это представление связано с популярным в Китае романом-сказкой У Чэнэнь «Путешествие на запад», в котором самый привлекательный персонаж – Сунь Укун (волшебная обезьяна) любит персики. Данные ассоциативные связи возникли под влиянием произведения культуры. При этом, например, ассоциация персик – девушка у русских не покажется неожиданной, так как в России широко известна картина В. Серова «Девочка с персиками».
Слово берёза ( 白桦树 ) в русском языке ассоциируется с женщиной, и потому в русском песенном жанре берёза олицетворяется с девушкой или невестой. На территории Китая берёза распространена только в северной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. Остальное население имеет смутное представление об этом дереве, поэтому у китайцев слово берёза не наполнено экспрессией, эмоциональностью, не получило никакой оценки и не стало символом, как у русских.
Слово рябина (花楸) чаще всего вызывает у русского ассоциации с родиной, печалью, одино- чеством, с родной природой. Рябина у россиян опоэтизирована, ей посвящено немало стихов, песен, поговорок. А для китайцев это название обычного дерева и ягоды. Случаи несовпадения символических значений или их отсутствие в одной из культур сигнализируют о наличии эмо-тивно-ассоциативных лакун, которые могут вызывать недопонимание между представителями соседствующих культур.
Проведённый нами свободный ассоциативный эксперимент на ассоциативные реакции других слов подтверждает наблюдения учёных-исследователей, заметивших, что один и тот же предмет может быть в обеих культурах, но его коннотативное наполнение национально обусловлено, что проявляется в особенностях символического употребления этих лексических единиц и отражается как на их семантике, так и на употреблении. Например, в китайском языке сосна (^#) не только обозначает вечнозелёное хвойное дерево, как и в России, но и символизирует смелого героя.
В китайской культуре есть три символа, отражающие китайский национальный характер: ( ^ ) сосна , ( W ) вечнозелёный бамбук и ( Ж ) зимняя слива . Эти три растения особенно близки душе и сердцу китайца. Они как три друга, три неразлучных товарища, вместе встречают весну и тянутся к вешнему солнцу. Поэтому их называют три друга в зимнюю пору. Сосна, бамбук и зимняя слива символизируют собой национальную особенность характера китайского народа -не сдаваться и идти навстречу весне. Когда мороз сковывает землю, сосна остаётся прежней. Поэтому китайцы считают её символом стойкости и несгибаемости. Сосна круглый год сохраняет свой зелёный цвет, поэтому в сознании китайцев она стала ещё и символом долголетия.
Зимняя слива - самый традиционный цветок в Китае. Она источает нежнейший аромат. Чем сильнее холода, тем красивее и чище оттенок её цветов. Поэтому для китайцев она символ благородной чистой красоты, стойкости и скромности [Общее знание 2006: 19].
Растения (^) бамбук и (Ж) зимняя слива вообще не растут в России, в связи с этим в русском языке по отношению к ним абсолютно отсутствуют какие-либо коннотации, порождающие, как правило, символические значения. Таким образом, слова (^) сосна, (^) вечнозелёный бамбук и (Ж) зимняя слива для русских коннота- тивно нейтральны и потому не вызывают никаких ассоциаций.
В русском языке журавль ( М ) как крупная перелётная птица ассоциируется с весной, а в китайском языке - с долголетием и выдающимся человеком. Для китайцев болотные утки-мандаринки ( Ж^ ) - это атрибут супружеской верности и семейного счастья, тогда как в русском языке это слово коннотативно не окрашено, им просто называют красивых болотных птиц. Вот как русская девочка Даша Волкова из Амурской области с восторгом пишет об этих водоплавающих:
Не стреляйте в утку-мандаринку, Дайте ей, красавице, цвести!
Посмотрите на неё и сами
Убедитесь - глаз не отвести! [«Я люблю эту землю» 2003: 201].
Мы считаем, что именно национальнокультурная и национально-коннотативная специфика являются основной причиной лексической лакунарности. В языке сравнения национально-коннотативная специфика отражена, по мнению ряда российских авторов, эмотивными (ассоциативными) лакунами.
«Язык через систему своих значений и их ассоциаций окрашивает концептуальную модель мира в национально-культурные цвета, поэтому языковая картина мира каждого конкретного народа является фактом его национальнокультурного наследия и обладает уникальной спецификой. Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, в связи с этим носители разных языков могут видеть мир по-разному, через призму своих языков. При изучении закреплённого в данном языке описания мира необходимо выявить не только общие, универсальные принципы организации действительности, но и закономерности, предпочитаемые тем или иным языком - как самим его строем, так и национально-культурным сознанием его носителей» [Фирсова, Карасева 2012]. С подобным типом лакун связано и наименование такого млекопитающего, как панда (^Ж). Это широко распространенное на территории КНР дикое животное, обитающее в бамбуковых зарослях, произрастающих в южной провинции Сычуань. Бамбуковый медведь - млекопитающее семейства медвежьих со своеобразным чёрнобелым окрасом шерсти, обладающее некоторыми признаками енотов, внешне безобидное неуклюжее существо, вызывающее чувство умиления. Черно-белый окрас панды символизирует в Китае простоту и чистоту. Панда для россиян – экзотическое, не символическое животное, выраженное абсолютной мотивированной ассоциативной (эмотивной) лакуной.
Именно национально-коннотативная специфика, обусловленная национально-культурным своеобразием, на наш взгляд, является причиной формирования символического значения у того или иного слова в прошлом и настоящем, что порождается своеобразием ассоциаций носителей языка, вызываемых национальными особенностями проявления оценки, экспрессии и эмоциональности по отношению к тому или другому артефакту или явлению природы (натурфакту).
В русском социуме эталоном крепкого здоровья, недюжинной физической силы является бык , в Китае бык – символ упрямства и трудолюбия. В процессе свободного ассоциативного эксперимента русские реципиенты на стимул бык продемонстрировали следующие реакции: крепкий, здоровый, сильный, с короткой сильной шеей, выносливый, обжора, недовольный, упрямый [Козлова 2001: 8], а китайские респонденты в проведенном нами эксперименте демонстрируют несколько иные реакции, частично совпадающие с реакциями русских: трудолюбивый, сильный, упрямый, плодородный .
В русском языке баран ассоциируется с глупостью , безволием и упрямством, что зафиксировано во фразеологизмах: идти как бараны, смотреть как баран на новые ворота, упереться как баран, глуп как баран и другие , а в Китае баран ассоциируется с нежностью, добротой. С глупостью ассоциируется не баран, а свинья. В китайском языке активно функционирует выражение глуп как свинья .
Китайский исследователь национальной специфики семантики У Гохуа считает, что культурная коннотация слова обычно основывается на некотором стереотипном для данного национально-культурного коллектива образноассоциативном комплексе. Автор указывает, что медведь, пень, бревно в русской лингвокультуре ассоциируются с неуклюжестью, баран и осёл – с глупостью, а орёл и сокол – со смелостью. Китайский исследователь национально-культурной семантики номинативных единиц приходит к выводу, что «чёткие и постоянные оценочные коннотации несут метафорические переносы ти- па «животные → человек». Цель этих переносов – приписать человеку некоторые признаки, которые всегда или почти всегда имеют оценочный смысл, так как перенос на человека признаков животных сам по себе подразумевает оценочные коннотации» [У Гохуа 2003: 87–88].
Таким образом, коннотативная специфика значения проявляется не только в несовпадении эмоциональных и оценочных компонентов в сопоставляемых единицах двух языков, но и в наличии той или иной эмоции или оценки в единице одного языка при её отсутствии в единице языка сопоставления, что порождает ассоциативную лакунарность.
Национально-языковая специфика заключается в наличии или отсутствии в анализируемой русской семеме тех или иных формальноструктурных признаков относительно языка сравнения. «Национально-культурную специфику слова следует отличать от национальноязыкового своеобразия, не обусловленного особенностями культур» [Зубкова 1995: 10]. Национально-языковая специфика отражает различия между единицами двух языков, связанные с исторически сложившимся местом единиц в системах обоих языков. Это особенности слова как единицы национальной системы языка вне связи с отношением слова к действительности, сознанию, эмоционально-оценочному компоненту значения. Разные виды национальной специфики отражены в символическом восприятии и мышлении двух народов. Это обусловлено отсутстви-ем/наличием разного рода коннотаций в единицах лексических систем, что порождает феномен ассоциативной лакунарности.
ASSOCIATIVE REACTIONS OF RUSSIANS AND THE CHINESE
IN THE ASPECT OF LACUNARITY
Han Zhiping
Postgraduate Student in the Department of Russian Language and Literature
Blagoveshchensk State Pedagogical University
Список литературы Ассоциативные реакции русских и китайцев в аспекте лакунарности
- Быкова Г.В., Глазачева Н.Л. Тематический словарь лакун русско-китайской и китайско-русской межъязыковой коммуникации. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. 200 с.
- Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системалогии. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. 364 с.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Методическое мастерство. 3-е изд, перераб. и доп. М.: Рус.язык,1983. 269 с.
- Гудавичюс А. Сопоставительная лексикология литовского и русского языков. Вильнюс: Москлас, 1985. 175 с.
- Зубкова Л.И. Безэквивалентная лексика с национально-культурной спецификой значения в произведениях В.М. Шукшина. Воронеж, 1995. 308 с.
- Козлова Т.В. Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями животных. М.: Дело и сервис, 2001. 208 с.
- Комлев Н.Г. О культурном компоненте лексического значения//Вестник Моск. ун-та. Сер.: Филология. 1966. №5. С. 43-50.
- Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М: ЧеРо, 2003. 349 с.
- Общее знание по культуре Китая. Пекин: Изд-во SINOLINGUA, 2006. 241с.
- Стернин И.А. Структурная семасиология и лингводидактика//Русское слово в лингвостра-новедческом аспекте. Воронеж: Изд-во Воро-неж.ун-та,1987. С. 104-121.
- У Гохуа. Контрастивный анализ национально -культурной семантики русских и китайских номинативных единиц. Пекин: Изд-во обучение и исследование иностранных языков., 2003. 323 с.
- Фирсова Н.М, Карасева Ю.А. Отражение национально-культурной специфики в художественном тексте (на материале испаноязычной литературы)//Современные научные исследования и инновации. 2012. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/02/7920 (дата обращения 28.11.2013).
- Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). М.: Гардарики, 2004. 349 с.
- Я люблю эту землю. Стихи и проза жителей Благовещенского района Амурской области. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. Вып. 2. 232 с.
- Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences. Sep.). 2009.Vol. 29, No. 5. С. 71-74. Режим доступа: http://www.symbolarium.ru/index (дата обращения: 09.12.13).