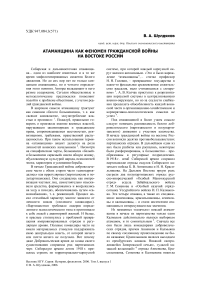Атаманщина как феномен гражданской войны на Востоке России
Автор: Шулдяков В.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736731
IDR: 14736731 | УДК: 947.084.3(571)
Текст статьи Атаманщина как феномен гражданской войны на Востоке России
Сибирская и дальневосточная атаманщи-на – один из наиболее известных и в то же время мифологизированных сюжетов Белого движения. Но до сих пор нет не только концепции атаманщины, но и четкого определения этого понятия. Авторы вкладывают в него разное содержание. Сегодня общественные и методологические предпосылки позволяют подойти к проблеме объективно, с учетом реалий гражданской войны.
В широком смысле атаманщину трактуют как синоним «белого большевизма», т. е. как «всякое самовластие, злоупотребление властью и произвол» 1 . Пожалуй, правильнее говорить о произволе именно военных властей, нарушавшем законопорядок и гражданские права, сопровождавшемся жестокостью, реквизициями, грабежами, нравственной распущенностью. При таком использовании термина «атаманщина» акцент делается на роли личностей воинских начальников 2 . Несмотря на специфические черты, большевизм «белый» и большевизм «красный» имели общую основу, обусловленную культурой народа, психологией эпохи, характером и условиями борьбы.
В начале Гражданской войны добровольческие части с обеих сторон часто «самозарож-дались» как иррегулярные (партизанские и по-лупартизанские). Они создавались как импровизация частных лиц, самостоятельно изыскивали средства, формировались и вооружались на ходу в походах, обеспечивались путем «самоснабжения», т. е. реквизиций. Процесс носил стихийный характер; многое зависело от личности вождя («полевого командира»). «Партизанство» требовало лидеров определенного психологического типа и притягивало к себе людей с авантюрной жилкой. И белые, и красные столкнулись с проблемой превращения импровизированных отрядов в регулярную армию. Полевые командиры часто не имели материальных стимулов поддерживать свою центральную власть, от которой ничего или почти ничего не получали. Вот почему даже Добровольческая армия до конца своего существования сохраняла ряд партизанских черт. Сибирскую армию летом 1918 г. пришлось строить по территориально-корпусной системе, при которой каждый корпусной округ являлся автономным. «Это и было нарождение “атаманщины”, – считал профессор Н. Н. Головин, – превращение государства в какое-то феодальное средневековое сожительство вассалов, мало считающихся с сюзереном» 3. А. В. Колчак приступил к реорганизации корпусной системы в централизованную военно-окружную, но из-за скудости снабжения преодолеть обособленность каждой воинской части в организационно-хозяйственном и корпоративно-психологическом смыслах не успел 4.
Под атаманщиной в более узком смысле следует понимать разновидность белого добровольческого (партизанского и полупарти-занского) движения с участием казачества. В начале гражданской войны на востоке России возникли десятки противобольшевистских партизанских отрядов. В дальнейшем одни из них были разбиты или распались, некоторые были расформированы, а большинство – преобразованы в регулярные подразделения. В 1918 г. штаб Сибирской армии сохранил партизанские отряды есаулов Сибирского казачьего войска Б. В. Анненкова и И. Н. Красильникова. На Дальнем Востоке яркую роль сыграли два полупартизанских отряда: русско-инородческий «Особый Маньчжурский отряд» есаула Забайкальского войска Г. М. Семенова и «Особый казачий отряд» сотника Уссурийского войска И. П. Калмыкова. Эти четыре атамана, а также их сподвижники: анненковцы, красильниковцы, семенов-цы и калмыковцы, – и стали носителями ата-манщины в интересующем нас значении.
Из названных «казачьих» вождей атаман-щины в начале их партизанства только один Калмыков действительно являлся выборным атаманом, и то сомнительным 5 . Сначала все они были лишь командирами добровольческих отрядов, причем Анненков и Калмыков по своему сословному происхождению не были казаками; Красильников являлся выходцем из оренбургских казаков. Никакой «возродившейся Запорожской сечью», «удалой казацкой вольницей» 6 отряды Анненкова, Красильникова, Семенова и Калмыкова никогда
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 1 © В. А. Шулдяков, 2006
не являлись. В них не было вечевых вольноказачьих традиций. Создатели этих отрядов, кадровые офицеры, твердо проводили единоначалие. Однако в силу добровольческого принципа формирования в отрядной иерархии возникала ненормальность. В подчинении начальников отрядов оказывались старшие по чину; например, у есаула Семенова имелись даже генералы. Чтобы «обойти неловкость», Семенов, Анненков, Красильников и приняли на себя звание атаманов своих отрядов сами 7 . Так появился особый тип полевых командиров – «казачьи атаманы», хотя их отряды были не казачьими, а сословно-смешанными.
Почему в атаманов превратились только единицы полевых командиров и именно атаманские отряды просуществовали гораздо дольше прочих партизанских? Прежде всего, все новоявленные атаманы были незаурядными личностями, героями Мировой войны, носителями активного начала, инициаторами вооруженной борьбы с большевиками в своих регионах. В той или иной мере они отождествляли себя с казачеством, а с сословной обособленностью казаков приходилось считаться всем антисоветским режимам. Многое зависело от личных амбиций. Анненков после доблестной боевой работы на Верхнеуральском фронте, взяв Белорецкий завод, посчитал свою задачу выполненной и стал проситься партизанить в Семиречье. Он проигнорировал приказания о переброске на Урал в отряд генерала Г. А. Вержбицкого. Атаман боялся, что его отряд, вновь втянувшись в боевую страду, да еще под началом военачальника регулярного типа, «постепенно растает» и будет ликвидирован. Начавшееся в Алтайской губернии крестьянское восстание дало повод для компромисса 8 . Фактически Анненков сам выбрал для себя Семиреченский фронт как место боевых действий. И даже внешне он демонстрировал «автономность». С июня 1918 г. у него все партизаны, в отличие от остальной Сибирской армии, были в погонах 9 .
Главное отличие атаманских отрядов от прочих партизанских, атаманщины в данном значении от просто «белого» большевизма заключалось в особой социально-политической природе этого явления. Атаманы были не просто военными вождями, они имели «привязку» к определенным группам местного населения. Мало считаясь с центром, они устанавливали на подконтрольной им территории собственные порядки. Исходя из своих взглядов и интересов, старались влиять на верховную власть.
Атаманщину и сепаратизм в целом можно рассматривать как средство самосохранения социальных групп и отдельных территорий в условия хаоса. Опустившись на самое дно распада и настрадавшись, люди начинали сами строить «свой порядок», «свое государство». «Чуть ли не на почве “общественного договора” образуются маленькие ячейки, все свойство которых – в их непроницаемости, – свидетельствовал современник, – они не хотят никакого постороннего вмешательства… В России идет этот огромный процесс атаманства, подбирания под себя отдельными лицами годных к борьбе и к строительству сил». «Тот, кто сумеет сцементировать вокруг себя определенную массу людей, вот тот и атаман». Сила атаманов «в близости отношения к массе, которая образует не войско вокруг них, а дружину, содружество воинов, спаянных круговой порукой. Их лозунги просты и понятны, потому что недалеко расстояние до самых толп» 10 .
Каждый атаманский отряд – это локальное явление со своей социальной базой. Так, Се- менов умело воспользовался старинным земельным антагонизмом между казаками и бурятами, с одной стороны, и крестьянами-старожилами – с другой 11. Агитаторы-семеновцы в марте 1918 г. легко подняли на восстание станицы 2-го отдела Забайкальского войска 12. Анненков удивительно быстро «обживался» на каждом новом месте. В мае– июне 1918 г. под Омском он наладил снабжение своего отряда путем самообложения казачьих общин и предпринимателей-аграриев. Уйдя в Семиречье, атаман не порвал связей с населением Степного края. Его «штабы пополнения» стояли на страже «своих»: например, Павлодарский защищал интересы казаков и землевладельцев против «киргиз» (казахов) 13. Придя в Семиречье, Анненков провел крестьянские съезды, после которых старожилы выставили ему несколько рот добровольцев 14. Часть населения явно воспринимала его как своего защитника. Анонимный автор в «Хвале и благодарности» атаману Анненкову писал: «Ты для спасения страдающей отчизны нам Богом дан. Благословит тебя Христос! И он тебе поможет и на твою главу премудрую венец хвалы возложит, да победим врагов своих…» 15.
С точки зрения локально-социальной базы атаманских частей интересен пример 2-го Устькаменогорского партизанского казачьего полка. Основой его послужил возникший в ходе восстания Устькаменогорский партизанский отряд (сотня) сотника Остроухова. В октябре 1918 г. сотня Остроухова вошла в отряд Анненкова и начала развертываться в четырехсотенный полк. Несколько месяцев эту часть содержали на добровольные пожертвования «патриотической организации» коммерсантов Усть-Каменогорска. Командир полка войсковой старшина П. И. Виноградский, он же начальник местного штаба пополнения Партизанской дивизии, завлек в свою часть не только казаков, но и киргизов, которые были зачислены в казачество и приняты в станичные общества. Киргизы составили в полку целую сотню, причем многие из них, в отличие от потомственных казаков, пришли в полк с собственными лошадьми и седлами. Всего в полку было строевых чинов: 23 офицера, 657 казаков 16. Анненковцы явно пользовались реальной поддержкой значительной части городского, казачьего и киргизского населения уезда.
Стремление атаманов устанавливать свои порядки – не просто самовластие «военщины», характерное для «белого большевизма», а целая система представлений и практических действий в вопросах о целях, средствах и формах борьбы. Они самочинно создавали структуры разведки и контрразведки, альтернативные правительственным, причем в своей деятельности эти органы выходили далеко за пределы подконтрольных атаманам территорий. Анненковская контрразведка действовала в 1919 г. не только в городах Семипалатинской области, но и в Омске. Каждый атаман чувствовал себя более-менее самостоятельной политической силой. Вот почему Красильников участвовал в колчаковском перевороте, Анненков колебался, признавать Колчака или нет, а Семенов пытался отстроить на подконтрольной ему территории самостоятельный политический режим.
С самого начала борьбы Семенов считал возможным временно взять на себя функции верховной власти, и в штабе его отряда наряду с чисто военными отделами были созданы судебно-административный, финансовый, железнодорожный, политический, мобилизационный. А в апреле 1918 г. атаман Особого Маньчжурского отряда создал Временное Забайкальское областное правительство 17 . Се-меновщина – самый масштабный и политизированный вариант атаманщины. Но и другие атаманы, хотя бы на крайне ограниченной территории и только на небольшое время, сосредоточивали в своих руках всю власть: например, Анненков в Семиречье в конце 1919 – начале 1920 г. Именно поэтому атаманщину можно рассматривать и в третьем значении: как специфические военно-политические режимы (точнее, проторежимы и подрежимы). Это наименее исследованный аспект, и в этом направлении сделаны только первые шаги 18 .
Пока ясно, что относительная самостоятельность и устойчивость дальневосточной атаманщины во многом была обусловлена внешним фактором. Начав борьбу на свой страх и риск, Семенов и Калмыков задолго до появления в Омске центральной власти наладили собственные каналы поступления вооружения и денег из-за рубежа. Их ставка на Японию была вынужденной. Только она, в отличие от других стран, давала помощь регулярно, не скупясь и не требуя отчетно-стиЧ19т.о касается сотрудничества с другими государствами, террора и беззаконий, мы не видим принципиальных отличий в действиях такого рода атаманов от практики большевиков. Калмыков прямо заявлял, что действует «по нравственному праву активного борца с предателями родины», и добавлял, что готов «понести перед будущей общепризнанной властью юридическую ответственность до смертной казни включительно» 20. «Революционной совести» большевиков противопоставлялась «контрреволюционная», интернациональноклассовому началу – патриотическое. Но методы были идентичны, так как и атаманы, и красные исходили из того, что цель оправдывает средства 21. И те и другие действовали по праву сильного.
Атаманы вели борьбу на беспощадное истребление врага. Калмыкову приписывают такую фразу: «…перегрызай горло всякому большевику, а то он тебе перегрызет» 22 . Колебавшимся, уклонявшимся от борьбы тоже доставалось, так как и атаманы исповедовали принцип «кто не с нами, тот против нас» 23 . Подобно чекистам, семеновцы или анненков-цы не утруждали себя поисками вины подозреваемого: хватало подозрения. Эффективность атаманского террора была также высока. Анненковская контрразведка настолько разгромила большевистское подполье в Павлодаре, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, что после прихода Красной Армии нельзя было найти местных людей для организации ревкомов 24 .
Давать оценку внешней ориентации атаманов надо с учетом ментальности эпохи. Большевики преподносили свои действия как начало мировой революции, их движение было интернациональным. Российская контрреволюция тоже вышла за национальные рамки и искала союзников за рубежом. Большевики воспользовались помощью Германии и по Брестскому миру отдали ей огромные территории. Стоит ли упрекать за подобные мысли их противников?
Ориентация на японцев – не только прагматизм. Показателен приговор сбора орен- бургской станицы Урлядинской, обращавшегося к Колчаку: «Настоящая борьба – борьба добра и зла. Людей зла в России больше, чем людей добра, при безразличии общей массы. …Нас, казаков, слишком мало, чтобы оздоровить всю страну. Господин Верховный правитель, мы подчинимся всему тому, что угодно будет Вам предпринять по привлечению иностранного содействия для борьбы с большевиками… ибо нельзя дожидаться, когда все дураки образумятся и вся сволочь засовестится. …Мы заявляем, что готовы ценою подданства императору Японскому избавиться от подчинения российской сволочи, руководимой и разжигаемой в темноте и злобе своей жидами» 25.
Для части православных борьба приобрела религиозный смысл. Может, отсюда лозунг анненковцев «С нами Бог!» или аналой с Библией в тесной комнатке атамана Калмыкова 26 . Может, отсюда и тотальный террор атаман-щины. Один из ближайших сподвижников Семенова барон Р. Ф. Унгерн так объяснял необходимость истребления носителей социализма: «Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем» 27 .
Атаманы долго находились на самофинансировании и были вынуждены встать на путь широких реквизиций государственной и частной собственности. «Оседлав» железную дорогу, семеновцы и калмыковцы устроили охоту за спекулянтами, контрабандистами, наркокурьерами. Отбирали у них деньги, золото, опиум и т. п. Добыча продавалась, выручка шла на нужды отрядов 28 . О последствиях и правовой стороне дела не думали. Анненков говорил: «Я реквизирую, а кто будет платить – не мое дело» 29 . У носителей атаманщины было мало оснований относиться к буржуазии с уважением и корректностью. Исключения были, но в целом она вела себя корыстно и недальновидно. Антибуржуазная струя в ата-манщине несомненна. Так, в стихотворении анонимного анненковца критиковались «набивавшие мошну» рвачи с народа, «золота рабы», и сам Колчак был назван «избранником богачей» 30 .
Атаманщина – это консервативное, религиозно-монархическое, со стремлением к жесточайшей диктатуре и тотальному террору течение Белого движения. Она была ярким явлением гражданской войны и своими крайностями врезалась в память современников. Но в рамках колчаковского режима атаманщина не имела шансов получить преобладающего значения, так как в нем доминировало конститу- ционно-правовое политическое течение. Даже внутри Забайкальского и Уссурийского войск у атаманщины была либеральная оппозиция, пытавшаяся опереться на казачью сословнопредставительную «демократию». Семенов и Калмыков в 1919 г. смогли справиться с ней. В созданных государством казачьих войсках Азиатской России не было глубоких традиций самоуправления, а с другой стороны – сам Омск не стал углублять конфронтации с дальневосточными атаманами и в «Читинском инциденте» пошел им на уступки 31.
Несмотря на разного рода эксцессы, отряды атаманов в силу того, что отвечали большевикам адекватно, применяя те же методы, внесли значительную лепту в борьбу. Противник по достоинству оценил боевое значение крайне правого крыла Белого движения, о котором М. В. Фрунзе писал: «В нашей политической борьбе – кто может быть нашим достойным противником? Только не слюнтяй Керенский и подобные ему, а махровые черносотенцы. Они способны были бить и крошить так же, как на это были способны мы» 32 .
Материал поступил в редколлегию 21.12.2005
Д. 61. Л. 111; Д. 45. Л. 176; Ф. 39483. Оп. 1. Д. 24. Л. 49–50.
-
17 Атаман Семенов. О себе. С. 147–148.
-
18 Василевский В. И. Забайкальская белая государственность в 1918–1920 гг. Чита, 2000; Атаман Семенов. Вопросы государственного строительства: Сб. документов. Чита, 2002.
-
19 Протоколы допросов Чрезвычайной следственной комиссии для расследования действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц // Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания. Новосибирск, 2005. С. 321.
-
20 ГАРФ. Ф. 6683. Оп. 1. Д. 17. Прил. № 48. Л. 9.
-
21 Там же. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 320. Л. 55.
-
22 Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Белград, 1930. Ч. 1. С. 77.
-
23 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 320. Л. 61.
-
24 Лазарев К. И. Восточный поход // Разгром Колчака: Воспоминания. М., 1969. С. 144.
-
25 ОГАЧелО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 159. Л. 21–22.
-
26 Новое время (Белград). 1930. 18 февр.
-
27 Барон Унгерн в документах и мемуарах. М., 2004. С. 171.
-
28 Марковчин В. В. Указ. соч. С. 220–223;
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 68.
-
29 Будберг А. П. Дневник // Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 14. С. 227.
-
30 ГАРФ. Ф. 6121. Оп. 1. Д. 73. Л. 83.
-
31 Шулдяков В. А. Сепаратизм атамана Г. М. Семенова и казачество (ноябрь 1918 – май 1919 г.) // Вестн. Тюм. гос. ун-та. 2004. № 1. С. 123–125.
-
32 Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах 1917–1940 гг. М., 1965. С. 55.