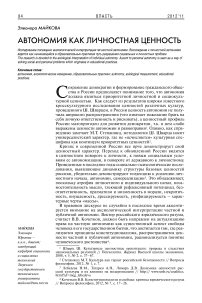Автономия как личностная ценность
Автор: Майкова Элеонора Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено аксиологической интерпретации личностной автономии. Восхождение к личностной автономии видится как начинающийся в образовательных практиках путь разрешения социальных и личностных проблем.
Автономия, аксиологическое измерение, образовательные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/170166145
IDR: 170166145
Текст научной статьи Автономия как личностная ценность
С охранение демократии и формирование гражданского общества в России предполагает понимание того, что автономия должна являться приоритетной личностной и социокуль-турной ценностью. Как следует из результатов широко известного кросскультурного исследования ценностей различных культур, проведенного Ш. Шварцем, в России ценность автономии не полу -чила широкого распространения (что означает нежелание брать на себя личную ответственность и рисковать), а ценностный профиль России малопригоден для развития демократии, т.к. в нем слабо выражены ценности автономии и равноправия1. Однако, как спра-ведливо замечает М.Т Степанянц, методология Ш. Шварца носит универсалистский характер, где не «исчисляется» культурная спе-цифика как континуум приоритетных ценностей2.
Кризис в современной России все ярче демонстрирует свой ценностный характер. Переход к обновленной России видится в ценностном повороте к личности, к новым социальным усло-виям ее автономизации, в повороте от державного к личностному. Проведенные в последние годы социально психологические иссле дования, выявляющие динамику структуры базовых ценностей россиян, убедительно демонстрируют тенденцию к усилению лич ностного начала, автономии, самореализации3. Это обнадеживает, поскольку атрофия личностного и индивидуального начал, неса мостоятельность мысли, тлеющий рефлексивный потенциал, без ответственность, прагматизм и низменность в морали, некритич ность, внушаемость, дрессируемость, унифицируемость — характерные черты «массы».
МАЙКОВА Элеонора
В правовом дискурсе не случайно в последнее время акценти -руется внимание на аксиологической интерпретации частной и публичной автономии. Вектор российского юридического разума, считает В.В. Кочетков, должен быть направлен на актуализацию права на частную автономию как существенный аспект свободы человека в его государственном бытии, что достигается там, где реа лизуются принципы конституционализма, распространяются цен ности частной и публичной автономии, рационализуется понятие человеческого достоинства4.
Как демонстрируют результаты проведенного нами в 2010—2011 гг. полевого социально - психологического исследова -ния студенческой молодежи (выборка — 616 чел.) Тверского региона, личностная автономия позиционируется как значи мая личностная ценность, наблюдается «восхождение» к ней в процессе профес -сионального становления. По результатам исследования автономность как личност ная диспозиция самоподтверждается по средством таких индивидуальных качеств и субъектных предикторов, как самоде-терминация, саморегуляция, самоактуа лизация, ответственность, воля, рефлек сивность, и влечет корректировку таких явлений, как идентичность, доверие, толерантность. Это обстоятельство важно учитывать в образовательных практиках, поскольку высокая взаимозависимость социальных интеракций, информаци онная и коммуникативная избыточность влекут необходимость селекции внешнего (среды), социального и развития способ -ности конструирования автономного, независимого, аутентичного, суверенного бытия и соответствующих поведенческих паттернов1.
В историко - философской ретроспек -тиве усматриваются предпосылки иссле дования проблемы автономии человека и личностной автономии. Они относятся к исследованию философских понятий сво боды выбора, свободы воли, к представле ниям об «идеальном проекте» человека в этических концепциях. Так, в философии раннего буддизма подчеркивается необ ходимость самостоятельного выбора для себя образа жизни. Этические импера тивы и максимы Конфуция постулируют значимость таких характеристик, как управление собой и сознательная орга низация всех сфер собственной жизни. В философии Сократа «даймонин» выра-жает внутренний голос совести, которым необходимо руководствоваться и кото рый подсказывает внутренние нормы поведения, в противовес слепому сле дованию социальным требованиям. В «Никомаховой этике» Аристотеля в связи с проблемой добродетели рассматривался вопрос произвольности поступков, за которые человек несет ответственность. В аксиологической проекции об автономии личности рассуждали Б. Спиноза, И. Кант, И.Г Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг и др.
Сегодня ключевыми ориентирами для социально философского дискурса темы автономии является ее осмысление в кон стелляциях «самости», «идентичности» и «социальной вовлеченности». Как спра ведливо замечает Ю. Хабермас, современ-ная «эпоха социальной вовлеченности» отличается от «эпохи самости» и «эпохи идентичности»2.
В «эпоху идентичности» меняется роль личностной автономии, поскольку пат терн идентичности предполагает состя зание универсальных проектов, универ сальное понимание человека оказывается не единственно возможным. Речь идет о балансе личностной и социальной иден тичностей.
Без Мы - идентичности не существует никакой Я-идентичности. Равновесие в этой паре может попеременно нарушаться то в пользу Я, то - Мы. Глобализация, для которой характерно усиление процессов фрагментации, многообразие возможно стей, самоопределение в отсутствие авто ритетов форсируют кризис идентичности. В попытках сохранения баланса, управляя многообразием возможностей внешнего мира, индивид с необходимостью должен дифференцировать личное и обществен ное Я. Социальное (общественное) Я - это специально созданная конструкция, кото рая строится так, чтобы до определенного предела защитить индивида от проблем, вызванных существованием глубоко реля тивистской социальной атмосферы.
Согласно Э. Гидденсу, конструирование Я в современности предстает как реф лексивный проект. Он полагает, что реф лексивность проникает в саму структуру современной личности3. В качестве «реф-лексивного проекта» личность самостоя тельно выбирает личностные формы иден тичности и жизненного стиля. Разработка траектории собственного Я превращается в одну из важнейших жизненных задач. В позднесовременном обществе, где тра диция по большей части перестает быть источником ценностных ориентаций и поведенческих установок для индивидов, им самим приходится выбирать себе иден тичность и образ жизни.
В контексте вышесказанного под идентичностью понимается последовательность психической жизни человека, его самотождественность с определенным признанным образцом, а также возникающая в социальных интеракциях различная проявленность личности. Идентичность рассматривают как интегрированность человека и общества, их способность к осознанию самотождественности и ответу на вопрос: «Кто я такой?».
В эпоху «социальной вовлеченности» приоритет, власть, влияние – за социальным в ущерб личностному «экзистиро-ванию». Здесь не может осуществляться самополагание и самоопределение, т.е. реализовываться паттерн самости. Вовлеченность – психологическое состояние, переживаемое как зависимость от того значения, которое придается стимулам, действиям или событиям. Чрезмерная сосредоточенность на внешнем (среде) инициирует большую вовлекаемость в нее, растворение в ней. В модусе социальной вовлеченности осуществляется интервенция на индивидуальную полиидентичность.
В последние годы мыслителями актуализируется проблема «принудительного выбора» для личности, инициированная экспансией социального в личное пространство (в т.ч. через потребительское мышление, информационные механизмы, манипулятивные технологии и т.д.), что требует гетерономного поведения, порождает избыточную податливость личности потоку непрерывных социальных изменений. Каждый человек вовлекается в социальные потоки, где отсутствуют социальные идеалы, ценностные ориентиры, путеводная нить, где нет авторитетов, дисциплины, но нет и автономии, суверенности, приватной жизни и где потерялась личная идентичность и самость.
Однако существуют аргументы и авторитетные мнения о том, что сегодня рано хоронить идею Я. И это несмотря на то, что распространенные постмодернистские концепции пытаются доказать, что Я отсутствует или же не имеет власти над создаваемыми нарративами. Постмодерн видит в полифоничности и децентрации распад Я. Об этом говорят и концепции «смерти субъекта» и «смерти автора», утвер ждающие потерю человеком ответственности за «авторство» своей самости, своих поступков и своего опыта, а также концепция «шизоанализа», представляющая человека как существо, полностью подчиненное своему бессознательному, своим желаниям и потому об ладающее децентрированной самостью, подобной шизофренической.
Таким образом, важно понимать, что в конкретных исторических условиях следует искать ответ на вопрос о границах, гранях, балансе личного и социального, личностной и социальной идентичности, автономии и гетерономии, констелляции самости, идентичности, вовлеченности. Автономность как личностная диспозиция, как сепарация от социальности обладает эволюционным смыслом, она содержательно связана с социогенезом, социальной саморегуляцией, имеет социокультурное предназначение. Это обстоятельство проблематизирует традиционное видение границ автономии личности, поскольку в содержании понятия автономии усматривается феномен дистанцирования личности от социального контекста.
Как личностная диспозиция, автономность – это имманентная самоустремлен-ность, способность к самоуправлению (саморегуляции), способность выбирать между альтернативными возможностями, ориентируясь на внутреннюю поддержку (смысл). Автономия – это дистанцирование себя, понимаемое как диалектика независимости и когеренции (зависимости) действий и мотивов. Автономность самоподтверждается и презентирует себя посредством таких личностных ресурсов и субъектных предикторов, как свобода (самодетерминация, саморегуляция, самоактуализация), ответственность, воля.
Как известно, формирование личности идет через практику самостоятельного поведения, т.е. практику (управление, осмысление), где человек включает себя в собственную деятельность, направляет ее на себя. Самостоятельное поведение направляется «индивидуальным семио-зисом» (приватными схемами) и сопровождается формированием новых представлений о своем Я как источнике самоуправления. Понятие автономии личности проявляет свои коннотации в пространстве релевантных понятий (аутентичность, приватность, суверенность), что компенсирует его релятивность.
Поэтому феномен личностной автоно- мии может быть корректно изучен только в контексте наличных социальных проблем, средствами междисциплинарного знания и философской рефлексии, через свою аксиологическую интерпретацию. Это позволяет преодолеть эвристическую недостаточность и методологическую узость частных дисциплинарных подходов к его толкованию.
Конструкт личностной автономии в психологических исследованиях последнего времени начинает играть все более важную роль. Он претендует на статус одного из главных компонентов личностного потенциала, оказывается ключевым звеном личностного развития. Одновременно автономия задает его направленность, целевое состояние и выступает как механизм, обеспечивающий его реализацию за пределами психосоциальной адаптации1. Личностная автономия испытывает культурные влияния, поэтому ее ценность различается в культурах, что показывают сравнительнокультурные исследования.
В социально-политическом дискурсе ценность личностной автономии определяется траекторией развития гражданского общества. Новый исторический поворот России к гражданскому обществу в конце ХХ в. актуализирует значение автономии в аспекте личностной проблематики: осмысление тесной взаимосвязи социальных и личностных процессов; понимание социокультурных механизмов и технологий воздействия на субъектность и личностные качества человека. Человек гражданского общества автономен по своему социокультурному статусу, обладает определенной внутренней свободой и суверенностью внутреннего выбора, ответственность за который ложится на него самого. Включение такого индивида в новую социальную среду трансформирует ценности, желания, потребности, интересы свободного человека как автономного субъекта. Расширение субъектных и личностных рамок за счет личностного потенциала, включающего когнитивную сложность мышления, высокую рефлексивность, социальную мобильность (как способность к доверию), ценностные инварианты и нравственные ориентиры, позволяет «менее проблемно» перейти к нелинейной социодинамике современной жизни.
Процесс становления гражданской личности, возрастание личностной автономии идет, в первую очередь, в образовательном пространстве. Поэтому для достижения личностью «суверенитета», фундированного в свою самость, аутентичность, идентичность и автономию, педагогическое сообщество должно заняться конструированием новых программ социализации молодого человека, адекватных не только профессиональным компетенциям, но и новым социальным реалиям.