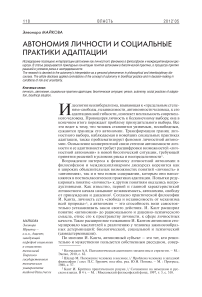Автономия личности и социальные практики адаптации
Автор: Майкова Элеонора Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 5, 2012 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено интерпретации автономии как личностного феномена в философском и междисциплинарном дискурсах. В статье раскрываются прикладные коннотации понятия автономии в биоэтической практике, в процессах приятия решений в условиях риска и неопределенности.
Личность, автономия, социальные практики адаптации, биоэтическая ситуация
Короткий адрес: https://sciup.org/170166364
IDR: 170166364
Текст научной статьи Автономия личности и социальные практики адаптации
И деология неолиберализма, взывающая к «предельным степеням» свободы, независимости, автономности человека, к его адаптационной гибкости, изменяет ментальность современного человека. Провоцируя личность к бесконечному выбору, она в конечном итоге порождает проблему принудительного выбора. Все это ведет к тому, что человек становится уязвимым, несвободным, сужаются границы его автономии. Трансформация границ личностного выбора, наблюдаемая в новейших социальных практиках адаптации, также проблематизирует феномен личностной автономии. Осмысление конвергентной связи степени автономности личности и ее адаптивности требует расшифровки возможностей «личностной автономии» в новой биоэтической ситуации, требующей принятия решений в условиях риска и неопределенности1.
МАЙКОВА Элеонора
Юрьевна – к.и.н., доцент; заведующий кафедрой социологии и социальных технологий
Возрождение интереса к феномену личностной автономии в философском и междисциплинарном дискурсах коренится как в широких объяснительных возможностях понятий «личность» и «автономия», так и в том новом содержании, которым они наполняются в постнеклассических практиках адаптации. Попытки редуцировать понятие «личность» к другим понятиям оказались непродуктивными. Как известно, первой и главной характеристикой личностного начала называют независимость, автономию, свободу от принуждения и давления2. Согласно практической философии И. Канта, личность есть «свобода и независимость от механизма всей природы»3, а автономия – это способность воли самостоятельно устанавливать закон своего действия. И. Кант расширил понятие «автономии» до рационального и душевно-психического смысла, отнес его к пространству личности, к сфере личностных качеств. Такое расширенное толкование И. Кантом автономии стимулировало мыслителей к различению у человека законосообразных детерминаций: биологической, социальной и психической (самодетерминации).
Идея личностной автономии супер-вентна идее человека как целостности, как позитивной идентичности. Целостность – это связанность и полнота жизни, это весь опыт человека (духовный, ментальный, социальный, личностный, психический, телесный, психофизиологический и т.д.), участвующий в порождении личностного начала. Под целостностью понимается сфера самоопределения личности, которая непосредственно связана со свободой субъекта. Согласно И. Канту, человек сохраняет свою уникальность благодаря цельности сознания. Последнее обеспечивает человеку ясное и адекватное представление о его внутреннем личностном ядре, т.е. идентичности. Зрелое, ответственное, аутентичное сознание конституирует феномен социальности. Способность человека к свободе, к самоопределению, личностной автономии, самоуважению, достоинству позволяет ему устоять в собственном личностном статусе, обеспечить личностную идентичность и целостность. Позитивная идентичность, согласно Д.А. Леонтьеву, различается как индикатор ценностно-смысловой регуляции и самодетерминации личности.
Как личностный ресурс, автономия – это рефлексия собственной ситуации выбора, обозначение границ Я, осознание реалий возможного и наличного бытия, способность трансформировать существующие правила и основополагающие принципы, ценности и смыслы. Как механизм саморегуляции, автономия согласует свою интенциональность с опытом Другого, с требованиями среды.
В психологическом дискурсе сегодня распознается личностная автономия как механизм самодетерминации и саморегуляции. Этот механизм реализуется в виде осознанного выбора способа действий, учитывающего как внутренние стремления, так и внешние условия жизни человека. В теории Э. Деси и Р. Райена самодетерминация рассматривается как ощущение и реализация свободы выбора человеком способа поведения независимо от внешнего окружения и внутриличност-ных процессов. Быть автономным – означает быть субъектом, самоинициируемым и саморегулируемым. Количественной мерой автономии является то, в какой степени люди живут в согласии со своим истинным Я1. В современном понимании саморегуляция как психологический механизм реализации активности субъекта предполагает активное преобразование мира в соответствии с потребностями субъекта.
Ориентиры индивидуального и социального поведения задаются социальными практиками адаптации. В широком смысле адаптация – это совокупность приспособительных реакций, которым свойственно: иметь целесообразный, целеустремленный характер; согласовывать цели и результаты, структуру, функции и условия среды; повышать защитные качества акторов; придавать динамичность и мобильность; блокировать стрессоры и негативные влияния; инициировать адекватность действия; оптимизировать принятие решений в требуемом темпе при высокой степени ответственности; способствовать достижению высших степеней саморегулирования.
Под социальными практиками адаптации мы понимаем заданную постнеклассическим дискурсом интерпретацию понятия «практика». Она базируется на методологии, предложенной В.С. Степиным при анализе классических, неклассических и постнеклассических форм научной рациональности. Особенность постнеклассических практик – сопряжение, синер-гийность человека и среды, человека и ситуации. В.В. Кизима, анализируя пост- неклассические практики, указывает, что «это саморазвертывающиеся целостные многопричинные (имеждисциплинарные) комплексы взаимодействующих людей и сред, в ходе саморазвития которых меня ются и люди, и среды, и их отношения, что и создает возможность огромного раз -нообразия данных практик, их циклов и вариантов их существования, и обостряет проблему управления ими. В постнеклас-сических практиках нет безответных дей ствий, поскольку каждая часть влияет на себя через целое, и в этой относительно сти субъект - объектных функций состоит рефлексивность целого и сохранение его постнеклассической идентичности»1.
Представления об автономии личности в теоретической проекции и в социаль -ной практике не совпадают. В практиках адаптации наблюдается несогласован ность и противоречивость представле ний об автономии личности. А.В. Петров справедливо полагает, что «в современ ном демократическом обществе призна ется право индивида на автономию, более того, соблюдаются определенные правила поведения, соответствующие уважению принципа автономии. Однако эти пред -ставления, строго говоря, не имеют право вой основы в связи с тем, что в законода тельстве фигурирует термин «свобода», а не «автономия»2.
В онтологической проекции социаль-ные практики предполагают автономию как способность к самоуправлению. Автономия как способность к самоуправ лению зависит от умения делать рацио нальный выбор3. Эта способность пони -мается как наличное (действительное) состояние самоуправления. В аксиологи ческом измерении автономия самоценна. Автономия как идеальная особенность состоит из определенного сочетания достоинств. По мнению А.В. Петрова, «ценность автономии как способности и состояния часто объяснялась ссылкой на внутренние ценности. Это показывает, как тесно автономия связана с другими понятиями, такими как честь, достоин ство, гордость... Ценности, которые мы ассоциируем с автономией как со спо собностью и состоянием, тесно связаны с нашим идеальным представлением о том, что значит быть личностью, и нашими взглядами на смысл жизни. Автономия — это уникальное качество человека; одна из способностей, которая отличает человека»4.
Яркой иллюстрацией трансформации границ автономии личности являются так называемые биоэтические практики адаптации, интерпретируемые как пост неклассический тип практик, как прак тики принятия решений в условиях риска и неопределенности.
В биоэтической практике принцип уважения автономии человека означает право каждой личности на самоопреде ление и действие без внешнего контроля, препятствующего реализации разумного выбора. Но вместе с таким нравственным правом субъект не может не нести лич ную моральную ответственность за само стоятельное решение фундаментальных проблем относительно локуса и вопро сов своей жизни. Взаимное уважение коррелирует с соблюдением свободы для себя и другого. Свобода — это внутреннее самополагание и осмысление, что дает право определяться и реализовываться в условиях отсутствия внешнего целепола гания. В биоэтической практике, напри мер, уважение автономии пациента пред полагает, что делаемый им выбор, как бы он ни расходился с позицией врача, должен определять дальнейшие врачеб ные действия. В медицинской практике принцип автономии лежит в основе права пациента на самоопределение. Но про блема принятия решений как личностно обоснованного выбора остается множе ственной онтологией, неопределенной по субъективным и объективным основа ниям реалией.
Можно быть уверенным, что в ближай-шее время интерес к проблеме принятия решений на личностном уровне, в соци альных практиках адаптации в условиях риска и неопределенности будет возрас тать в связи с увеличением множества переменных, которые идентифицируются и распознаются лицом принятия реше-ний.