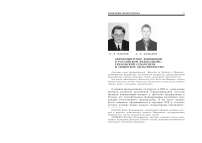Автономистские концепции в российском федерализме: украинский сепаратизм и сибирское областничество
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Давыдов Дмитрий Владимирович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 2 (67), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется автономистское (сеперативное) течение в отечественной федеративной мысли, выделяются украинский сепаратизм и сибирское областничество, представлены проекты, направленные на повышение прав Украины и Сибири. Идеи идеологов сепаратистских и автономистских концепций рассматриваются в контексте панславизма и антиколониализма.
Федерализация, древнерусский федерализм, административный децентрализм, земская областная теория, автономизм, областничество
Короткий адрес: https://sciup.org/147221037
IDR: 147221037
Текст краткого сообщения Автономистские концепции в российском федерализме: украинский сепаратизм и сибирское областничество
Создание федеративных государств в XIX в., осмысление проблем развития российской территориальной системы вызвали повышенный интерес к проблеме федерализма в России, что способствовало формированию различных концепций отечественного федерализма. В их числе важное место занимало оформившееся в середине XIX в. течение, которое условно можно назвать сепаративным (автономист-
БАХЛОВ Игорь Владимирович, заведующий кафедрой всеобщей истории и мирового политического процесса Мордовского государственного университета, доктор политических наук, доцент.
ДАВЫДОВ Дмитрий Владимирович, научный сотрудник отдела мониторинга социальных процессов Научного центра социально-экономического мониторинга Республики Мордовия.
ским). В нем мы можем выделить два направления: украинский сепаратизм и сибирское областничество.
Возникновение украинского сепаратистского направления связано с деятельностью нелегальной политической организации «Братство св. Кирилла и Мефодия», созданной и функционирующей в Киеве в 1846—1847 гг. Его основным идеологом был историк Н. И. Костомаров. Главными принципами Кирилло-Мефодиевского кружка являлись освобождение славянских народностей из под власти иноплеменников; организация их в самобытные политические общества, федеративно связанные между собою; уничтожение всех видов рабства; упразднение сословных привилегий и преимуществ; религиозная свобода мысли, печати, слова и научных изысканий; преподавание всех славянских наречий и литератур в учебных заведениях. Целями организации были национальное освобождение Украины и создание основанной на принципах христианского социализма Всеславянской федеративной республики во главе с Украиной. Члены Кирилло-Мефодиевского общества видели в создании такой федерации путь обретения Украиной подлинной национальной свободы, так как ее самостоятельное политическое существование признавалось невозможным.
В состав федерации должны были войти Украина, Россия, Польша, Чехия, Сербия, Болгария, но не в собственном качестве, а в виде 17 штатов (Северный, Северо-Восточный, Юго-Восточный, два Поволжских, два Малороссийских, Средний, два Южных, два Сибирских, Кавказский, Белоруссия, Польша, Чехия с Моравией, Сербия с Болгарией). Столицей федерации намеревались сделать Киев. Всеславянская федерация мыслилась не монархической, а республиканской, демократической. Высшая законодательная власть передавалась двухпалатному сейму, или «общему славянскому собору из представителей всех славянских племен», исполнительная — избираемому на 4 года президенту. Центральная власть должна была ведать армией, флотом и внешними сношениями, каждый штат сохранял автономию в отношении внутреннего управления, судопроизводства и народного образования. Все штаты обязывались организовать и содержать свою милицию и силы внутреннего правопорядка.
Выступая за широкую автономию для каждой входящей в союз нации, кирилло-мефодиевцы предполагали, что основным дипломатическим языком в нем должен стать великорусский язык как самый распространенный. Кроме того, предполагался единый славянский язык для богослужения при сохранении национальных языков и различий в вероисповедании. Для всех частей федерации предполагались отмена крепостного права и свобода торговли, одинаковые основные законы и права, единство денежной единицы, мер и весов. В каждом штате, как и на уровне федерации, признавалась необходимой республиканская форма правления. Главная роль в достижении панславистских федеративных принципов отводилась традициям идеализированной казацкой вольницы2.
После разгрома Кирилло-Мефодиевского общества Н. И. Костомаров отходит от идей демократического панславизма и украинского сепаратизма. В его последующем учении можно отметить два компонента: анализ федеративного начала в Древней Руси и идею культурно-национальной автономии Украины в составе России. В Древней Руси он отмечал наличие борьбы между вечевой демократией, народной свободой, самоуправлением и государственностью и единодержавием.
Одно начало заключалось в стремлении отдельных княжеств и земель к саморазвитию, сохранению самобытности и самостоятельности. Сущность другого состояла в стремлении к созданию и укреплению централизованного унитарного государства. Н. И. Костомаров писал: «Начала, соединявшие земли между собой, хотя и были достаточны для того, чтобы не допустить эти земли распасться и каждой начать жить совершенно независимо от других, но не настолько были сильны, чтобы между всеми землями образовалась и поддерживалась неустанно связь. Так Русь стремилась к федерации, и федерация была формою, в которую она начала облекаться. Вся история Руси удельного уклада есть постепенное развитие федеративного начала, но вместе с тем и борьбы его с началом единодержавия»3.
Эти начала коренились в глубинах психологии древнего славянского племени и привели к его распаду на великороссов и южнороссов. В древнерусский период, с точки зрения Костомарова, было полное торжество федеративного начала, проявляющегося в равноправном существовании южнорусской, северской, белорусской, великорусской, псковской и новгородской народностей, причем в основе федерализма лежал этнографический принцип. Древнерусский федерализм покоился на народно-вечевом строе, который в своем развитии приобретал черты анархической вольницы и вел народоправство к упадку и гибели. Единодержавие означало борьбу с федеративными началами, со стихией вечевой вольницы, которую стало олицетворять казачество. Полагая, что древнерусские традиции вольности и вечевой свободы сохранились в Южной Руси, историк допускал возможность возвращения к утерянным федеративным началам. В России федеративное устройство, по мнению Н. И. Костомарова, в сочетании с разумными государственными и гражданскими понятиями должно было гарантировать свободу от самодержавного и сословного произвола, права народов, веротерпимость. Отмечая «кровную» и «глубокую неразрывную духовную связь» великорусского и малорусского (южнорусского) народов, которая «никогда не допустит их до нарушения политического и общественного единства», а также самостоятельность украинского языка и литературы, он считал необходимым предоставление Украине культурно-национальной автономии4.
Другой представитель этого направления М. П. Драгоманов выступил продолжателем идей Н. И. Костомарова, хотя в его творчестве заметно влияние теоретиков анархизма. По мнению Драгоманова, федерализм — это административная децентрализация, широкое общественное самоуправление, основанное на исторических традициях и культуре народов и областей, т. е. федерализм выступает главным средством в решении национального вопроса. Суть национального вопроса заключается в утверждении культурного равноправия больших и малых народов, прежде всего славянских. Подлинное равноправие и сотрудничество народов Российской империи (он рассматривал взаимоотношения русского, украинского и польского народов) возможно лишь путем создания федеративного государства с учетом национальнокультурной автономии.
Российская империя представлялась М. П. Драгоманову обветшалым зданием, не способным существовать в прежнем виде. Ее централизация при необъятной территории является тормозом культурного, экономического и всякого иного разви- тия народа. Таким же тормозом представлялось ему неограниченное самодержавие, противодействовавшее росту народного самоуправления. Не одолев этих препятствий, Украина не может мечтать о решении национальных проблем, а уйти от них можно только вкупе со всеми российскими народами и, прежде всего, с великороссами. По мнению М. П. Драгома-нова, федерация в корне меняет характер политического лица государства, будучи неразрывно связанной с осуществлением демократических свобод и прочного местного самоуправления. Признавая в качестве идеального федеративного государства Швейцарию, он подчеркивал, что возможным средством продвижения к нему является административный децентрализм: законодательное оформление автономии мест (департаментов, уездов, городов и сел).
Согласно М. П. Драгоманову, губернии должны быть заменены земскими единицами, которые должны сочетать в себе края, однородные по характеру земли и населению, а также быть достаточно населенными, чтобы иметь средства для удовлетворения местных потребностей. Земской единицей должна быть область, делившаяся на уезды и волости, в каждой из которой образуются думы и управы. Верховным законодательным органом являются государственная и союзная думы: государственная дума является общенациональным представительством, союзная дума выражает федеративное начало и состоит из депутатов, избранных областными думами.
В качестве движущей силы на пути к федерации в России Драгоманов называл земства, которые были возможной формой легальной борьбы за установление в России конституционного правления как первого шага на пути к федерации, так как лучшие из них, по его мнению, смогли стать на путь естественной группировки уездов и губерний для самостоятельной деятельности, расшатывающей имперский бюрократизм. Рассматривая федерализм как ориентир для совместных усилий всех народов России в борьбе за политическую свободу, М. П. Драгоманов предполагал преобразование империи с учетом экономико-географических и этнографических особенностей в федерацию 20 областей: Северной, Озерной, Балтийской, Литовской, Польской, Белорусской, Полесской, Киевской, Одесской, Харьковской, Московской, Нижегородской, Казанской, Уральской, Сара- товской, Кавказской, Казацкой, Западно-Сибирской, Среднеазиатской и Восточно-Сибирской5.
Украина, согласно этой схеме, должна делиться на четыре области, примерно совпадающие с ее большими регионами: Полесскую, Киевскую, Одесскую, Харьковскую. Области делятся на уезды и волости, представляющие собой самоуправляющиеся общины. Все хозяйственные, культурные и бытовые вопросы решаются народом. К компетенции общероссийского правительства относятся лишь общие для всех областей дела. При таком строе украинцам никто не помешает создавать собственную литературу, театр и музыку, сохранять старинные обычаи, развиваться экономически.
Таким образом, несмотря на то, что Драгоманов был убежденным сторонником украинской автономии, федеративное начало не соединяется у него с принципом национального самоопределения. Это было вызвано тем обстоятельством, что автономию он понимал как культурное самоопределение украинского народа в пределах Украины как территориальной экономико-географической единицы, составляющей естественную часть единого Российского государства.
В целом взгляды представителей этого направления носят утопичный характер. Моделируя свои федеративные конструкции, мыслители упускали ряд объективных и субъективных обстоятельств. В частности, они игнорировали менталитет, исторические условия жизнедеятельности народов, вражду между некоторыми народами, которые должны были входить в состав будущего объединения. Они упрощали и идеализировали существующую международно-политическую ситуацию. Сильной стороной исследований той поры является учет особенностей страны с точки зрения генезиса государственности, исторически сложившихся традиций, ее географического расположения. Знакомство с трудами этих исследователей позволяет сделать вывод об их научной оригинальности и самостоятельности, значительном вкладе в разработку проблем федерализма.
К автономистскому направлению можно отнести и идеолога так называемого «земского федерализма» А. П. Щапова. Особого внимания заслуживает разработанная им земско-областная теория. Считая неполным предложенное Н. И. Костомаровым деление русской истории на удельновечевой и единодержавный периоды, он выделил в ней в качестве основных земско-областной и государственносоюзный периоды, разделительной гранью между которыми было Смутное время. Все великорусские области, по мнению А. П. Щапова, образовались как федеративные группы земель, заселявшиеся путем общинного колонизационного самоустройства в пределах обособленных речных систем. С учетом географических очертаний и этнографических особенностей сложились самобытные федеративные области: Поморье (земли Новгородская, Двинская, Вычегодская и др.); Прикамье (земли Пермская, Вятская); верхне- и средневолжская полосы; заволжское и закамское Приуралье.
Русская история, с точки зрения А. П. Щапова, есть история областей, относительно обособленных региональных сообществ, собирательным именем которых было земство. Под земством он понимал исторически сложившийся единый русский социум, олицетворявший собой отечественный аналог западноевропейского гражданского общества. Традиция созыва земских соборов до середины XVII в. была свидетельством политического компромисса государственного и народного волеизъявлений. По мнению А. П. Щапова, государство должно содействовать постоянно развивающемуся в политическом отношении обществу. Только федерация, основанная на общественном самоуправлении, была способна учесть весь комплекс региональной самобытности (природно-климатической, этнической, социокультурной, бытовой и др.).
Однако со второй половины XVII в. вместо наметившейся тенденции внутренней консолидации общества возобладала имперская централизация, которая в корне противоречила элементам федералистского уклада. Русское общество было разделено на замкнутые сословия.
Согласно проекту А. П. Щапова, будущим государственным устройством должно быть полное общественное самоуправление, основанное на началах местных бессословных выборов, а также общественные должности разных административных уровней от мирского старосты до земского царя. Эта вновь создаваемая земская система позволила бы каждому социальному слою общества отстаивать свои интересы. Во всем, где общественные силы способны самостоятельно функционировать, вмешательство государственных структур излишне6.
В письме Александру II, написанному из тюрьмы, А. П. Щапов призывал его создать Российскую федерацию самоуправляющихся областей с народным контролем над провинциальным губернским управлением, всесословными земскими советами и ограничивающим царскую власть земским собором; уничтожить непомерную экономическую централизацию и осуществить «всенародное просвещение»7. В некотором смысле «земская идея», разработанная Щаповым, составляет вариант, альтернативный тотальной монополии «неподотчетного» бюрократического централизма.
Во многом под воздействием концепций, разработанных Н. И. Костомаровым и А. П. Щаповым, в середине XIX в. среди буржуазии и части буржуазной интеллигенции Сибири зарождается движение, позднее получившее название «Сибирское областничество», целью которого было достижение автономии для свободного капиталистического развития сибирских областей. Федеративные взгляды на положение Сибири высказывались еще во времена Петра I, а в последующем возможность областной автономии для Сибири предполагал Н. Н. Муравьев-Амурский8.
По мнению одного из основателей сибирского областничества Н. М. Ядринцева, русская история — это преимущественно «история различных областных масс народа», постоянного территориального устройства, разнообразной этнографической организации, взаимодействия, борьбы, соединения и разнообразного политического положения областей. Поэтому общий прогресс связан не с централизацией, а с дифференциацией жизни целого, обособлением функций, самобытным самосовершенствованием каждой отдельной части. Провинциям должна быть предоставлена как можно большая самостоятельность, что позволит им решать «местные вопросы», обеспечит их развитие и тем самым послужит на благо всего государства9.
Основополагающим в концепции Н. М. Ядринцева и областничества в целом был тезис о Сибири как о колонии в полном смысле этого слова. Так, в своем основном труде «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении» Н. М. Ядринцев охарактеризовал современное ему состояние Сибири, выделив ее черты как колонии: место уголовной ссылки, роль сырьевого придатка России, отсутствие обрабатывающей промышленности, от- сутствие образовательных учреждений и отток способной молодежи в Европу, кабала и рабство инородцев, задержка аграрного развития в силу пресса московского торгово-мануфактурного капитализма. В то же время Сибирь — это самобытный социокультурный, культурно-исторический и географический мир, имеющий большое будущее в силу ее посреднической миссии и той важной культурной и политической роли, которые ей объективно присущи. Решающими условиями социокультурного и экономического возрождения России Н. М. Ядринцев считал введение в ней (наравне с метрополией) земства и улучшение положения общины, так как ограждение общины при помощи интеллигенции от податного пресса, торговцев-перекупщиков и мироедов способно превратить ее в ячейку рациональной организации сельского хозяйства, источник «автономии», кадров краевой интеллигенции и народных капиталов, необходимых для развития краевой промышленности10.
Н. М. Ядринцев рассматривал хозяйственную самостоятельность Сибири в составе России как экономическую базу для создания демократического самоуправления. По его мнению, систему управления можно было преобразовать путем отделения военной власти от гражданской, а судебной — от административной; устранения колониального характера управления; введения законности и гласности; развития земских и общественных структур. Хозяйственная самостоятельность провинции отнюдь не возможна без автономии и территориального самоуправления, так как далекий центр не может знать всех нужд огромной окраины. При этом Н. М. Ядринцев опирался на земскую областную теорию А. П. Щапова. Предоставление провинциям большей самостоятельности обеспечит их успешное развитие, что послужит на благо всего государства.
Многие идеи Н. М. Ядринцева систематизировал и развил Г. Н. Потанин. Его основная идея — это рост значения и увеличение роли земских органов Сибири как механизма самоуправления и саморазвития края. Высшим земским органом Сибири должна стать Областная дума, а местные финансы выделены из общегосударственных, для чего думе должно быть передано заведование лесными, горными и водными богатствами края и распоряжение поземельным фондом Сибири. Местные органы должны получить право решающего голоса в переселенческой политике, что по-зволило бы избежать обострения проблемы малоземелья и ухудшения положения земледельцев-старожилов. Кроме этих пунктов, областническая программа Г. Н. Потанина предполагала предоставление сибирякам политических льгот, представительство в Сибирской думе всех «инородцев», вплоть до самых малочисленных, включая их просвещение. Социальной базой областничества, по его мнению, были провинциальные деловые круги и местная интеллигенция. Идеи автономизации Сибири были реализованы на I съезде сибирских областников в Томске, на котором Г. Н. Потанин был избран председателем Сибирского областного совета, ответственного перед Сибирской областной думой, созданной на Чрезвычайном общесибирском съезде в декабре 1917 г.11
Подводя итог анализу автономистских концепций, можно отметить, что, во-первых, они исходили из признания самобытности и необходимости самостоятельного развития регионов Российской империи на основе широкого предоставления самоуправления. Во-вторых, приоритет отдавался автономизации отдельных регионов (Сибирь, Украина), причем признавалась возможность их сохранения в составе России. В-третьих, задачи и методы автономизации понимались по-разному: украинское направление исходило из предоставления национально-культурной автономии и самобытного развития украинского языка и культуры, тогда как сибирские областники задачу автономизации видели в повышении социально-экономической самостоятельности Сибири путем ликвидации признаков ее колониального состояния. В-четвертых, в отстаивании собственных взглядов представители этого течения опирались на исторические разработки, призванные обосновать их притязания существующими традициями, начиная со времен Древней Руси. Однако в условиях унитаристского правительственного курса программа федерализации государства могла рассматриваться лишь на теоретическом уровне. Практическая реализация автономистских концепций оказалась возможной лишь после крушения империи.
Список литературы Автономистские концепции в российском федерализме: украинский сепаратизм и сибирское областничество
- Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846-1847). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959. С. 85-87.
- Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Кн. I. СПб.: Книга, 1903. С. 30.
- Пинчук А.А. Исторические взгляды Костомарова. Киев: Наукова думка, 1984. 190 с.
- Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений: в 2 т. Т. 2. Национальный вопрос на Украине и в России. Париж: Изд. ред. «Освобождение», 1906. 874 с.
- Смищенко Р.С. Русский федерализм А.П. Щапова // Научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: материалы конф. / под ред. Ю.Ф. Кирюшина, В.А. Скубневского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. С. 154-155.
- Кабанов П.И. Общественно-политические и исторические взгляды А.П. Щапова. М.: Госполитиздат, 1954. С. 27.
- Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников: сб. материалов и публикаций / отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 409 с.
- Шиловский М.В. Общественно-политическое движение Сибири второй половины 19-го - начала 20-го века. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. 88 с.
- Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. 560 с.
- Письма Г.Н. Потанина: в 3 т. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. Т. 1. С. 10-35.