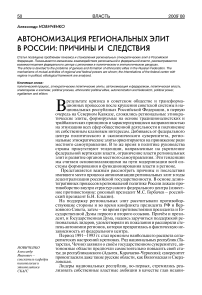Автономизация региональных элит в России: причины и следствия
Автор: Новиченко Александр Иванович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Центр и регионы
Статья в выпуске: 8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам генезиса и становления региональных этнократических элит в Российской Федерации. Показываются механизмы взаимодействия региональной и федеральной власти, рассматриваются взаимоотношения федеральныого центра с регионами в политическом и элитологическом ракурсах.
Политический процесс, этнократические политические элиты, автономизация и федерализм, политическая власть, эгалитаризм и элитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170164988
IDR: 170164988
Текст научной статьи Автономизация региональных элит в России: причины и следствия
В результате кризиса в советском обществе и трансформационных процессов после крушения советской системы в национальных республиках Российской Федерации, в первую очередь на Северном Кавказе, сложились региональные этнократические элиты, формируемые на основе традиционалистских и трайбалистских принципов и характеризующиеся направленностью на этнизацию всех сфер общественной деятельности и подчинение их собственным клановым интересам. Добиваясь от федерального центра политического и экономического суверенитета, региональные этнократические элиты ориентируются на принижение роли местного самоуправления. В то же время в политике руководства страны присутствуют тенденции, направленные на укрепление федеральной вертикали власти, ограничение власти региональных элит и развитие органов местного самоуправления. Эти тенденции мы считаем основополагающими на пути модернизации всей системы формирования и функционирования власти в регионе.
Представляется важным рассмотреть причины и последствия имевшего место процесса автономизации региональных элит в годы децентрализации российской государственности. В основе дезин-тегративных процессов в региональной политике России лежало противоборство внутри структур самого федерального центра (известное противостояние: союзный президент М.С. Горбачев – российский президент Б.Н. Ельцин).
На поддержку региональных элит рассчитывали противоборствующие стороны и во время конфликта президента РФ и Верховного Совета, затем – во время противостояния президента и Государственной Думы первого и второго созывов. Причём и президент, и Государственная Дума, надеясь заручиться поддержкой региональных лидеров, удовлетворяли их пожелания и расширяли степень автономии регионов, которая превратилась в фактическую независимость от федерального центра.
НОВИЧЕНКО Александр Иванович – соискатель кафедры политологии и этнополитики СКАГС
Период 1991–1993 гг. стал временем наибольшего расцвета сепаратистских настроений в регионах. Ряд национальных республик (Татарстан, Чечня) заявили о своём государственном суверенитете, автономные области предпочли самостоятельно повысить свой статус до республиканского (Адыгея, Карачаево-Черкесия); суверенитет провозгласили даже такие русские области, как Вологодская и Свердловская.
Лидеры национальных республик, во-первых, стремились реализовать собственные властные амбиции в качестве глав незави- симых государств, а во-вторых, находились под давлением националистических движений и растущих националистических и сепаратистских настроений в обществе.
Однако всё же удалось заставить региональные элиты отказаться от сепаратистских устремлений и добиться их политической лояльности. Только в случае с Чеченской республикой, которую возглавлял не представитель партийной номенклатуры, а политический неофит Джохар Дудаев, политика уступок и компромиссов дала сбой. Федеральному центру пришлось отказаться в данном случае от «мирного урегулирования» ситуации (т.е. уступок региональной элите) и использовать силовые методы для предотвращения сепаратизма. Однако подавление чеченской оппозиции было возможно при опоре на противостоящие Дудаеву клановые группировки, на которые федеральный центр и сделал свою ставку, и, как оказалось, правильную. Дальнейшие события в Чечне показали, что клановые противоречия в этой республике всё же оказались сильнее общечеченского национализма, основывавшегося на конструкте советской эпохи – чеченской национальной идентичности1.
К экономическим факторам, сопутствовавшим ослаблению власти федерального центра в регионах, можно отнести, в первую очередь, провал политики экономических реформ, предпринятых российским правительством в начале 1990-х гг. Отсутствие общественного контроля, укоренённость во властных структурах выходцев из партийной номенклатуры с присущей им психологией привели к тому, что приватизация в российских условиях обернулась настоящим социальным бедствием. Природные ресурсы расхищались практически открыто и продавались за рубеж, промышленность и сельское хозяйство дезорганизовывались. Доходы от приватизации собственности в итоге пополняли не общегосударственный бюджет, а банковские счета чиновников как федерального, так и регионального уровня.
Немаловажное значение имел также различный уровень автономии регионов от федерального центра. Общепризнано, что между различными субъектами федерации существует определённое неравенство в правах (и в обязанностях). Так, многие регионы выступают реальными экономическими донорами федерального бюджета, при этом практически не пользуясь тем широким набором льгот и привилегий, который федеральные власти предоставляют «нерентабельным» в экономическом отношении и политически нестабильным национальным республикам, прежде всего северокавказским. Реальный уровень автономии русских областей и краев и национальных республик сильно разнится, в том числе и в рамках Южного федерального округа.
Прежде всего, отметим, что многие пункты целого ряда региональных законодательств национальных республик существенно расходятся с федеральным законодательством. Ещё в большей степени отличаются реалии политической жизни национальных республик. В частности, многие северокавказские республики в 1990-е гг. имели собственные вооружённые формирования, находившиеся под полным контролем региональных этнократических элит. Это было общей традицией для всех постсоветских южных республик – Грузии, Таджикистана, Чечни. Более того, наблюдались попытки перевода силовых структур, размещённых на территории определённых национальных республик, из федерального в республиканское подчинение.
Федеральный центр предпочитал не обращать внимания на факт существования «мини-армий» национальных регионов в обмен на заверения региональных элит в лояльности к российскому правительству. Только в случае Чеченской республики зашла речь о незаконных вооружённых формированиях, поскольку власти республики провозгласили отделение от России и последовательно дистанцировались от российского правительства.
Региональные этнократические элиты всегда уделяли особое внимание подчинению силовых структур своему влиянию, чего можно было добиться, прежде всего, путём этнизации силовых органов – замещения всех должностей начальствующего и даже в некоторых республиках рядового состава выходцами из титульного этноса. Кроме того, под контролем влиятельных клановых групп создаются негосударственные вооружённые формирования, оформляемые как охранные агентства, народные дружины и т.п.
Политика заигрывания федерального центра с региональными этнократиче- скими элитами на Северном Кавказе дошла до того, что федеральное правительство фактически легализовало вооружённые формирования местных клановых элит, оформив их под видом комендантских рот, различных милицейских подразделений, служб безопасности республиканских руководителей, структурных единиц частей вооружённых сил.
Вслед за «парадом суверенитетов» и провальной политикой реформ, существенным фактором ослабления влияния федерального центра в регионах стал финансовый кризис августа 1998 г. Чтобы сохранить поддержку населения и выгодный имидж защитников региональных интересов перед федеральным центром, местные элиты вновь вспомнили автономистскую риторику. В ряде регионов были введены такие экономические меры, расходившиеся с общероссийской экономической политикой, как регулирование цен на основные продукты питания и введение запрета на экспорт продовольственной продукции и предметов первой необходимости.
Пытаясь выразить свои политические интересы на федеральном уровне, региональные элиты приступили к партийному строительству. Так были созданы «губернаторские» партии «Вся Россия» и «Отечество», впоследствии объединившиеся в один блок, который возглавили региональные лидеры – мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Идеологией региональных элит, как отмечают исследователи, в этот период стал «децентрализованный федерализм», сводившийся к признанию правомерности несоблюдения регионами федерального законодательства, поддержке разграничения полномочий федерального центра и региональной власти, противодействию попыткам реформирования системы межбюджетных отношений, «двойным стандартам» в отношении федерализации на общероссийском уровне и в рамках конкретных субъектов федерации1. Требуя увеличения автономии от федерального центра, региональные руководители в то же время всячески препятствовали развитию органов местного самоуправления, не говоря уже о создании автономных районов внутри под контрольных им регионов.
В последующие годы, когда центр под руководством В.В. Путина приступил к выстраиванию новых взаимоотношений между центром и регионами, региональные элиты оказались вытесненными из общероссийского политического процесса.
Некоторые эксперты называют курс, начатый Путиным, политикой «этатистской модернизации» страны.
Безусловно, политика реформирования отношений федерального центра и регионов ведёт к централизации системы власти, к установлению более жёсткого и эффективного контроля российского правительства над руководителями регионов. Но означает ли она реальные изменения в формировании и функционировании региональной власти?
На этот вопрос пока нет однозначного ответа, по крайней мере в отношении национальных республик Северного Кавказа. Модель отношений национальных республик с центром остаётся прежней. Региональные элиты встретили реформы достаточно лояльно, однако, как отмечают некоторые эксперты, эта лояльность была просто «выкуплена» федеральной властью за счёт финансовых поступлений в регионы2.
В национальных республиках Северного Кавказа продолжают функционировать традиционные механизмы формирования и деятельности этнократических элит. Назначаемые из центра руководители моментально интегрируются в систему функционирования местной элиты. При этом продолжают существовать и теневые экономические структуры, и «личные армии» в лице президентских служб безопасности и иных силовых структур регионального уровня.
В то же время фактически Россия перестаёт быть федеративным государством, поскольку регионы теряют свою автономию от центра, в том числе и в таком важном вопросе, как выборность глав субъектов федерации. Принцип назначения руководителей из центра работает как средство укрепления властной вертикали, но оказывается совершенно бесполезным и даже вредным в деле предотвращения реальных угроз националистических и сепаратистских настроений в националь ных респуб ликах.