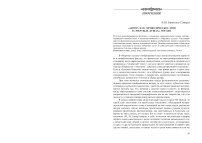"Автор" как символическое имя в "Мертвых душах" Гоголя
Автор: Кривонос Владислав Шаевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются функции и семантика символического имени «автор», играющего важную роль в метаповествовании в «Мертвых душах». Рассматриваются функционально различающиеся формы изображения автора и выявляется соотношение между ними в гоголевской поэме. Показана взаимосвязь символизирующей тенденции в поэтике «Мертвых душ» и символического потенциала, заложенного Гоголем в образе автора.
Автор, имя, символический, метаповествование, гоголь
Короткий адрес: https://sciup.org/14914750
IDR: 14914750
Текст научной статьи "Автор" как символическое имя в "Мертвых душах" Гоголя
В «Мертвых душах» изображенный здесь автор постепенно вырастает в символическую фигуру; это происходит по мере развертывания повествования, когда нарастающая символизация «должна была прорваться и прорвалась в “открытый” текст»1, когда не просто заметно усиливается, но и резко обнажается «“сквозное” действие символизирующей тенденции»2. Если в «Евгении Онегине» можно видеть, «как роман растет и зреет вместе с личностью самого поэта»3, то в «Мертвых душах» рост и вызревание символизации тесно связаны с раскрытием символического потенциала, изначально заложенного Гоголем в образе автора.
При этом меняется соотношение между функционально различающимися формами изображенного автора, то есть между субъектом повествования и субъектом творчества; стратегия метаповествования выстраивается Гоголем так, что, начиная с шестой главы (и вплоть до финала), когда перестраивается сама система смыслообразования4, акцентируется направленность авторской саморефлексии как на акт творчества, так и на личность условного творца пишущегося произведения.
В начале первой главы автор описывает въезд в город NN брички, «в какой ездят холостяки» и в какой сидел «господин»5, обладавший неопределенной наружностью, а еще и носивший на шее «шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым, наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает: я никогда не носил таких косынок» (VI, 9). Автор говорит о себе, используя местоимение в форме первого лица единственного числа; возникает иллюзия включенности «я» в сюжетный план, общий с героем, где оба они «холостяки», отличающиеся друг от друга бытовыми привычками. Из повествования в первой главе трудно понять, выступает ли автор только в роли повествователя или же является одновременно и действующим лицом, свидетелем и непосредственным очевидцем описываемых событий, на что намекает его исключительная осведомленность в происходящем, чем занимался «приезжий господин» (VI, 8), куда он «отправился» (VI, 11), кому нанес «визиты» (VI, 13), с кем «познакомился» (VI, 17) и какое мнение «составилось о нем в городе» (VI, 18).
К перволичной форме повествования автор прибегнет и в третьей главе, направляя внимание читателя на оттенки и тонкости обращения Чичикова с разными персонажами: «Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился» (VI, 49). Или, еще ранее, во второй главе, объясняя, почему он обрывает описание Маниловой: «...но признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям...» (VI, 26). Но в этих его высказываниях план повествования четко отграничен от сюжетного плана; автор говорит о себе для того, чтобы отделить свой, авторский, мир от мира героев. Ср. далее, в главе VIII: «Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем» (VI, 157-158). Симметричные, казалось бы, повествовательные ситуации выполняют, однако, разные функции: отказ от подробной характеристики дам не просто вновь фиксирует границу между планами «я» и изображаемых персонажей, но служит еще и автодемонстрацией метаповествования6.
Между тем, со второй главы перволичная форма повествования постепенно уступает место форме повествования от третьего лица, от лица «автора»; именно так, говоря о себе в третьем лице, автор и будет теперь себя называть. Что касается перволичной формы, то она сохранится в лирических отступлениях7, где «я» служит персонификацией изображенного автора; мир «я», который здесь раскрывается, и есть мир изображенного автора, не только уже успевшего заявить о себе как об «авторе», но всякий раз идентифицирующего себя с «автором».
В метаповествовании самопрезентация субъекта творчества, именующего себя «автором», и обозначает его самоидентификацию. Ср.:
«Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, - но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем, и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец» (VI, 19).
Так осуществляется субъектом творчества словесная самообъектива-ция и самоактуализация: он предстает как обладающий индивидуальными

признаками и чертами «автор», то есть персонифицированный создатель произведения, демонстрирующий читателю, которого он вовлекает в процесс творчества, специфику литературной условности8.
Для изображенного автора назвать себя «автором» и говорить о себе как об «авторе» - значит не отождествлять себя с тем же самым «я», оставшимся в границах повествования и не распознавшим в «господине» созданного им же самим героя9, но утвердить свой статус в метаповествовании - статус «автора». В этом именно качестве он и обращается к читателю, превращая того в сотворца пишущегося произведения, на что указывает номинация героя посредством местоимения «наш»: «...промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели» (VI, 44—45 ); «Герой наш по обыкновению сейчас вступил с нею в разговор...» (VI, 62); «Герой наш трухнул однако ж порядком» (VI, 89); «.. .герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее» (VI, 113); «Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально» (VI, 116); «Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше...» (VI, 166); «Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя» (VI, 173) и т.д. Читатель должен воспринять героя как «героя», для чего в авторе он должен увидеть «автора».
В формуле «наш герой» скрыто непрямое указание на читателя; будучи речевым порождением изображенного автора и элементом авторского мира, где творится вымысел, читатель занимает ту же позицию по отношению к герою, что и субъект творчества, словно удваивающий с помощью обозначенной формулы свое прямое присутствие в метаповествовании. И эта формула, и открытые обращения к читателю, служащие знаками читательского участия в акте творчества, призваны мотивировать избранное субъектом творчества самоименование.
В структуре метаповествования значимыми становятся следы, оставляемые в памяти условного читателя; отсюда ссылки на читательскую память, служащие «напоминанием о самом напоминании»10. Ср.: «На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю» (VI, 126); «Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился» (VI, 145); «Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами...» (VI, 174); «Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города» (VI, 196) и т.д. В приведенных примерах читатель - это носитель читательской функции, атрибут субъекта творчества, который всякий раз напоминает не только об известных и знакомых читателю персонажах или предметах, но прежде всего о границе, разделяющей действительность персонажей и мир акта творчества. Активизация читательской памяти является симптомом прорывов постепенно нарастающей символизации: читатель оказывается подготовлен к ним не только ставшими «привычными для него скачками повествования»11, но и скачками метаповествования, резко выталкивающими на первый план символическую фигуру «автора».
В открывающем главу VI лирическом отступлении изображенный автор, предаваясь воспоминаниям о своем детстве и о своей юности, рассказывает о том, как многое его «поражало», когда подъезжал он «в первый раз к незнакомому месту», и что «ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья», как он «уносился мысленно» за встретившимися ему пехотным офицером, купцом или уездным чиновником «в бедную жизнь их», задумываясь над их возможными занятиями и разговорами, или, побуждаемый любопытством, старался «угадать» при виде помещичьего дома, каковы облик и характеры его обитателей и «кто таков сам помещик» (VI, 110-111). И сетует на овладевшее им «теперь» равнодушие к внешним впечатлениям, что «теперь» его «охлажденному взору неприютно», печалясь, что безвозвратно, как ему кажется, утрачена им «теперь» детская восприимчивость к явлениям бытия и юношеская «свежесть» (VI, 111).
Лирическое отступление носит подчеркнуто автобиографический характер; изображенный автор, запечатлевая себя в разные периоды и в разных возрастах жизни, излагает свою внутреннюю историю, важную для его писательской судьбы12. Интерпретируя факты своей жизни в духе просветительски понимаемого жизнеописания13 и наделяя сюжет собственного взросления универсальными смыслами, он применяет существенные для его самооценки и для стратегии метаповествования «возрастные категории»14 в соответствии с традицией построения писательских биографий, появившихся на рубеже XVIII и XIX вв. В этих биографических текстах получали «“пиитическую” окраску» факты и свидетельства «об особой остроте чувств, “восприимчивости” души ребенка» и его «склонности к мечтательности и фантазированию»15, и играл особую роль мотив пробуждения дара, осознания «своего призвания» и «своего пути»16.
Свойственные автору с детских лет острая наблюдательность, свежесть чувств и развитое воображение служат проявлением художнического дара и характеризуют его как будущего творца. Проблематичное единство своего «я» он переживает как драму писателя, которого не может не тревожить состояние внутреннего охлаждения. Его поистине подвергает «теперь» испытанию жизни холод, который предстоит вытерпеть, чтобы признать, что юность с ее свежими мечтаньями не дана была ему напрасно^. Структура лирического отступления, подобно структуре авторского монолога в восьмой главе «Евгения Онегина», тоже «отличается большой сложностью»18 и «не выражает окончательного суда автора»19 - только не над героем, как в пушкинском романе, но над самим собой.
Вот Чичиков «был уже средних лет и осмотрительно-охлажденного характера» (VI, 92-93). Но охлажденный характер не служит преградой для задуманного автором возрождения и преображения героя, уже и сей-
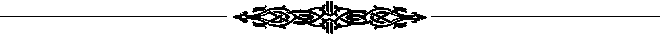
час способного, «чего он сам себе не мог объяснить», почувствовать себя «чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром» (VI, 169). Автор же возрождается и преображается в акте творчества, обнаруживая и доказывая, что он отнюдь не утратил юношескую свежесть мировосприятия и может вновь испытать состояние вдохновения и вновь пережить рождение «чудных замыслов» и «поэтических грез» (VI, 222).
С лирическим отступлением в главе VI перекликается лирическое отступление в следующей главе, главе VII, в структуре которого сочетаются такие формы словесной самообъективации, как исповедь и автобиография20. Изображенный автор прибегает к исповедальным интонациям и автобиографическим мотивам, рассказывая о судьбе писателя, «дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Он излагает не свою внутреннюю историю, связанную с перипетиями этой судьбы, но историю отношения к писателю «современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта» (VI, 134).
Лирическое отступление содержит своего рода автопортрет субъекта творчества, то есть изображение изображения21. В размышлении о судьбе писателя, оставшегося «без разделенья, без ответа, без участья» (VI, 134), затрагивается принципиально важная в русской культуре идея сохранения человеком, каковы бы ни были обстоятельства его жизни, «личной идентичности»22, то есть данного человеку образа Божьего, а в случае писателя - его писательского лица. Современный суд потому и назван лицемерно-бесчувственным, что не имеет своего лица23, но он не только и не просто меняет лица и принимает личины, но абсолютно равнодушен к добру и злу и потому так жесток и безжалостен. А ведь «именно с личной идентичностью устойчиво связывались этические нормы русской культуры»24.
Характеризуя современный суд, мешающий «непризнанному писателю» (VI, 134) осуществить его миссию, автор находит «выраженья, огни, а не слова», которые поистине излетают от него, «как от древних пророков» (VIII, 281)25. Образ же писателя, которому суд этот «всё обратит в упрек и поношенье» (VI, 134), закономерно вызывает значимые ассоциации с образом гонимого пророка - как вестника отвергаемого современниками откровения. Напомним, что уже в русской культуре XVIII в., культуре секуляризованной, «откровенное знание поэта отождествляется с откровениями библейских пророков»26; «в поэте, в высоком вдохновен- ном писателе», верном своему призванию, видят «пророка, служителя истины, подкрепляющего слово готовностью к гонениям, лишениям и даже гибели»27. В «Мертвых душах» и автопортретный образ писателя, и образ изображенного автора приобретают символическую значимость в соотнесенности с универсальными для русской культуры XVIII - начала XIX вв. концептами «поэт» и «пророк»28.
Символически значимым оказывается и имя «автор», выбранное для себя изображенным автором, наследующим функции «поэта» и «пророка» в той же мере, в какой создаваемое им произведение наследует функцию сакральных текстов29. В том числе и текстов пророческих, в которых откровение принимает форму картин, возникающих перед внутренним взором пророка; так в Библии «возвещаемое пророком получено им в состоянии видения или особенного восторга»30.
Ср.: «Но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения» (VI, 223).
Авторское предположение касается возможного и вероятного и в этом смысле гипотетично, то есть не подтверждено непосредственным наблюдением и описанием, но видение и не претендует на достоверность рисуемой картины и ее буквальное понимание. Ср. недоумение критика-современника: «Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете...»31. Однако автор не обещает, но предсказывает и пророчески провидит, воспринимая пишущееся произведение «не только как творимое, создаваемое, но и как внушаемое свыше»32. Как будто свыше насылается на автора и родственное пророческому восторгу вдохновение: вот «неестественной властью осветились» его «очи», а «главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями» (VI, 221).
В основе авторского опыта пророчества лежит опыт творчества. Так, говоря о трудностях изображения характера Манилова, автор признается, что «вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд» (VI, 24). А в последней главе, определяя характер приобретателя, в котором «есть уже что-то отталкивающее», объяснит читателю: «Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин» (VI, 242).
С.Г. Бочаров замечает о «позиции выведывания человека» у Гоголя и о слове «выпытывание», которым «писатель определяет свое отношение к предмету», что в «достигающем крайней степени усилии художника есть момент насилия над предметом»33. Между тем, авторская саморефлексия направлена в приведенных высказываниях не столько на предмет, сколько на самого субъекта творчества; в них содержится его самохарактеристика, где акцент сделан на взгляде, изощренном в науке выпытывания, взгляде испытующем и изведывающем, который есть свойство дара. Автор, наделенный особым художническим даром, так же избран для своей миссии, как и пророк для своей; как пророк получает откровение в состоянии видения, так автор получает сокровенное знание посредством взгляда, устремленного «поглубже» герою «в душу» (VI, 242).
Ведь что такое этот изощренный в науке выпытывания взгляд? Что такое этот испытующий взгляд, который изведывает характер до первоначальных причин? Это и есть взгляд «автора», то есть, согласно происхождению слова «автор» и его этимологической характеристике, «субъекта действия», присущего «в первую очередь богам как источникам космической инициативы»34. А кем выступает этот субъект действия в акте творчества? Создателем произведения, его творцом. Стало быть, статус «автора», как он обозначен и как он раскрывается в метаповествовании, есть статус творца.
Ср.: «И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме» (VI, 242).
Речь идет о незавершенности творения, конечный смысл которого не разъяснится до тех пор, пока будет длиться акт творчества.
Взгляд «автора» направлен как на предмет творчества, так и на самого себя. Если ‘выпытать’ означает ‘узнать’, ‘выяснить’, ‘выведать’, то ‘изведать’ обладает значением ‘испытать на себе’, ‘узнать на собственном опыте’.
Ср.: «Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежитель-ной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время!» (VI, 223).
В этом признании раскрывается другая сторона внутренней истории изображенного автора, вновь прибегнувшего к характеристике возраста, но на этот раз для того, чтобы подчеркнуть специфику зрелости. Возраст зрелости, в который вступил автор, требует от него, прежде всего, мудрости, о чем он напомнит читателю далее, когда станет объяснять выбор героя (Но мудр тот...), мудрость же дается опытом самопознания и самовоспитания.
Символическому имени «автор» соответствует символическое поведение, ориентированное на значимый для Гоголя «образ уединенной мона- шеской жизни» и «религиозного подвижничества», который послужил для него самого в 1840-е гг. «школой его самовоспитания»35. Для архаической мысли, не тематизировавшей «неповторимое», имя как «эквивалент именуемого лица», «имя “автора”», служило знаком не «индивидуальности», но «авторитета»36. В «Мертвых душах» с именем «автор» ассоциируются представления об «авторитете» персонифицированного субъекта творчества, приобретающего такой «авторитет» в результате подвижнической жизни и осознанного как подвижничество творчества.
Имя «автор» потому и становится в «Мертвых душах» символически значимым, что несет в себе «сверхличное и общезначимое содержание»37.
Ср.: «К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубокоустремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами» (VI, 245).
Было отмечено, что уже в литературе XVIII в. эпитет «святая» применительно к «правде» представлялся тривиальным: «В контексте русской поэзии это было общее место»38. Используемое автором выражение «святая правда» связано с традицией сакрализации поэта в русской культуре XVIII - начала XIX вв., то есть с феноменом и идеей «светской святости»39. С этой идеей прямо соотносится в «Мертвых душах» как изображение автора, так и наделение его именем «автор», семантику которого определяет культурная этимология40. При этом Гоголь воскрешает изначальный смысл слова «святая».
Изображенный автор, подобно самому Гоголю41, не является воплощением святости. В его взгляде (глубокоустремленном взоре) на самого себя нет намека на автосакрализацию, но резко проявляется острое чувство внутренней связи с сакрализованным Словом. Так обнажается в «Мертвых душах» надличная ценность авторского «я», а имя «автор» раскрывает свой глубинный символический смысл.
Список литературы "Автор" как символическое имя в "Мертвых душах" Гоголя
- Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). Л., 1982. С. 25
- Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 106
- Маркович В.М. «Задоры», Русь-тройка и «новое религиозное сознание». Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-м томе Мертвых душ//Wiener Slawistischer Almanach. 2004. T. 54. S. 97
- Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [М.; Л.], 1951. Т. VI. С. 7
- Манн Ю.В. Поэтика Гоголя//Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 312
- Атарова К.Н., Лесскис Г.А. Семантика и структура повествования от третьего лица в художественной прозе//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1980. Т. 39. № 1. С. 34-35
- Тодоров Ц. Поэтика/Пер. с фр.//Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 76
- Смирнов И.П. Указ. соч. С. 242
- Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). С. 32
- Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора)//Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. Таллинн, 1992. С. 372
- Смирнова Е.А. Гоголь и идея «естественного» человека в литературе XVIII в.//XVIII век. Сб. 6. Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 283
- Манн Ю.В. Ломоносов в творческом сознании Гоголя//Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. СПб., 2007. С. 551
- Грачева Е.Н. Представления о детстве поэта на материале жизнеописаний конца XVIII -начала XIX вв.//Лотмановский сборник. Т. 1. М., 1995. С. 325
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Т. V. Л., 1978. С. 145-146
- Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980. С. 350
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 124, 132
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 288
- Вендина Т.И. Язык как форма реализации культурной идентичности//Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 50
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., стереотип./Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1987. Т. III (Е-Муж). С. 506
- Вендина Т.И. Указ. соч. С. 51
- Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII -начала XIX века//Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 662
- Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII -начала XIX века//Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII -начало XIX века). 2-е изд. М., 2000. С. 121
- Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 60
- Брагина Н.В. Имена лиц в общественно-культурной языковой практике//Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Ч. 1. М., 2001. С. 12
- Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII -начала XIX века С. 89
- Толковая Библия. Т. 5. Пг., 1908. С. 234
- Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. VI. С. 418
- Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. С. 317
- Бочаров С.Г. О стиле Гоголя//Теория литературных стилей. Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976. С. 412
- Аверинцев С.С. Авторство и авторитет//Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 105
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., стереотип./Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1986. Т. 1 (А-Д). С. 60
- Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 141
- Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 106
- Аверинцев С.С. Символ//Аверинцев С.С. София-Логос: Словарь. 2-е изд., испр. Киев, 2001. С. 158
- Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII -начала XIX века. С. 90
- Панченко А.М. Русский поэт, или Мирская святость как историко-культурная проблема//Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 316-317
- Панченко А.М. Церковные реформы и культура петровской эпохи//Из истории русской культуры. Т. III (XVII -начало XVIII века). М., 1996. С. 49
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. 3-е изд. М., 2004. С. 43
- Анненкова Е.И. Мирская святость как опыт жизни и предмет творческой рефлексии Н.В. Гоголя//А.М. Панченко и русская культура. СПб., 2008. С. 138