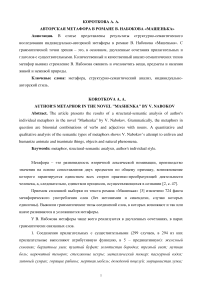Авторская метафора в романе В. Набокова "Машенька"
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты структурно-семантического исследования индивидуально-авторской метафоры в романе В. Набокова «Машенька». С грамматической точки зрения - это, в основном, двучленные сочетания прилагательных и глаголов с существительными. Количественный и качественный анализ семантических типов метафор выявил стремление В. Набокова оживить и очеловечить вещи, предметы и явления живой и неживой природы.
Индивидуально-авторский стиль, метафора, структурно-семантический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/147249046
IDR: 147249046 | УДК: 81’373.612.2
Текст научной статьи Авторская метафора в романе В. Набокова "Машенька"
Метафора – это разновидность вторичной лексической номинации, производство значения на основе сопоставления двух предметов по общему признаку, возникновение которого гарантируется единством всех сторон практико-преобразующей деятельности человека, а, следовательно, единством процессов, осуществляющихся в сознании [2, с. 47].
Приемом сплошной выборки из текста романа «Машенька» [3] извлечено 724 факта метафорического употребления слов (без метонимии и синекдохи, случаи которых единичны). Выясним грамматические типы соединений слов, в которых возникают и так или иначе развиваются и усложняются метафоры.
У В. Набокова метафоры чаще всего реализуются в двучленных сочетаниях, в парах грамматически связанных слов.
-
1. Соединения прилагательных с существительными (299 случаев, в 294 из них прилагательные выполняют атрибутивную функцию, в 5 – предикативную): железный сквозняк; бархатные уши; пузатый буфет; золотистая бородка; трезвый свет; мутная боль; нарочитый тенорок; стеклянные искры; металлический пожар; пасмурный вздох; липовый сумрак; горящие рябины; мертвая мебель; дождевой поцелуй; морщинистая лужа;
-
2. Сочетания глаголов (в предикативном и атрибутивном употреблении) с существительными (таких примеров соответственно 147 и 49): одно кресло скучало у Ганина; всплыл голос; ночь утихла; душа притаилась; и снова в жужжанье просквозила Машенька; снежинки щекотали; солнце путалось в колесах автомобилей; дорогу охватили березы; автомобиль выругался; кровать скользит в жаркое ветреное небо; в глазах металось счастье; внизу проливались улицы; боль впилась в сердце и т.п. Примеры глагольных форм в атрибутивной функции: дрожащая осторожность; дышащая блуза; увядшая рука; обнаженные глаза; спящая береза; одеревеневшие ноги; еще не остывшие подробности и т.д. В половине случаев причастия употреблены обособленно: женское лицо, всплывшее опять после многих лет забвения; черный шелковый бант, распахнувший крылья; тени, бегущие в белом блеске экрана; стихи, зацветшие теплым и бессмертным бытием; русские книжки, бог весть откуда забредшие к нему и др.
-
3. Сочетания двух существительных (75 примеров). Среди этих метафорических пар есть как «стертые» метафоры: круг света; волна звука; щетка усов; конус пыли; хвост очереди; головка кувшинки; поток света; полотно железной дороги; так и окказиональные : пустыня стола; моря улиц; лабиринт памяти; пустыня вечера; глаза веранд; крендель тропинок; поток счастья; трупы газета лопасти магнолий; веер железнодорожного полотна и т.д.
-
4. Соединения наречий с глаголами (56 случаев и 2 случая, когда наречия относятся к словам категории состояния): стал сахаристо посвистывать; писал ласково, мечтательно; туманно глядел; тяжело и пушисто пахло черемухой; сладко и тоскливо хрустнули руки; взволнованно затявкала такса; цвела пустынно и прелестно крымская весна; мечтательно мычит корова и т. д.
лунный обморок; комнатный бурелом; круглый голос; бумажные снежинки; лубочная музыка; певучая дверь; хромая скамья и другие многочисленные примеры.
В предикативной функции прилагательные выступают в следующих случаях: задумчивы телеграфные столбища; нежен и туманен Берлин; утро было белое, нежное, дымное . В пределах этой грамматической группы встретилось несколько случаев оксюморона: растерянно-наглые матросы, дряхлая мощь, грустный юмор, тревожное блаженство .
В сочетаниях глаголов и существительных метафорически применяются только глаголы как в зависимом, так и в независимом употреблении.
Зависеть может степень сравнения наречия: полюбил ее острее прежнего; наречие может относиться к глагольным формам: осторожно темнеющий вечер и словам категории состояния: было смертельно скучно; страшно грустно смотреть на нее .
В приведенных сочетаниях метафоризируется всегда зависимое слово.
К двучленным метафорическим сочетаниям следует отнести и некоторые выражения, состоящие более чем из двух слов: два бледных стиха; несколько изуродованных строк; судьба дала ему отведать разлуки; Стамбул стал выплывать из сумерек; жизнь ему представлялась съемкой; лицо было помято; он стал что-то мурлыкать (всего 20 примеров); в их состав входят нечленимые по тем или иным причинам двух- и даже трехсловные сочетания.
Деепричастие, формально зависящее от глагола-сказуемого, но семантически относящееся к подлежащему, с точки зрения создания метафоры составляет с последним тоже двучленное сочетание: стоял крейсер, покоясь на золотистых, текучих столбах своего же отражения; гремел поезд, продольно сквозя частоколом света.
Как видим, в большинстве случаев метафоризация осуществляется при взаимодействии разных частей речи с существительными. Двучленные сочетания – основной способ реализации метафор у В. Набокова. Для него наиболее характерны сочетания глаголов и прилагательных с существительными; стоящие на третьем месте по степени употребительности сочетания двух существительных иногда по смыслу сближаются с сочетаниями, содержащими прилагательные (глаголы редки): пустыня стола - пустынный стол. Но такие случаи нечасты, в основном набоковские метафоры – застывшие, ни во что не преобразующиеся.
Все эти разновидности сочетаний, с метафорически употребленными глаголами и именами, делают художественную речь В. Набокова такой динамичной и красочной.
Метафоры могут возникать и в трехчленных сочетаниях, разных по составу и семантическим отношениям между их частями.
Наиболее часты у В. Набокова трехчленные сочетания с метафорически употребленными наречиями: грустно уходили в серую муть горящие рябины; взволнованно затявкала такса; день прошел вяло; в комнате тяжело пахло ориганом; мечтательно мычит корова и т.п. В таких сочетаниях семантически необычна грамматическая пара наречие и глагол, однако отчетливее воспринимается метафоричность в соединении грамматически не связанных наречия и существительного: грустные рябины; взволнованная такса; вялый день; тяжелый запах; мечтательная корова и т.п. Как видим, такие сочетание возможны только с метафорически употребленным наречием.
В трехчленных сочетаниях может быть метафоричным прилагательное, соотнесенное с существительным другим, промежуточным существительным: каштановая волна прически; пурпурная резина губ; томная темнота век; солнечные зеркала асфальтов;
пустынный запах пыли; веерная пустота рельс; мрамористые тома старых журналов и т.п.
Метафора может возникать и у существительного, связанного с другим существительным прилагательным или причастием: мозаика колбасных долек; схватка механической любви; синева стриженных голов и под.
Таким образом, все трехчленные сочетания могут быть сведены к таким типам: 1) в грамматически связанных парах слов нет ничего необычного и метафоры появляются в «неграмматической паре»: безмолвно вздрагивали тени ; 2) метафоричность, содержащаяся в грамматически связанной паре, которая составляет зависимую часть трехчленной конструкции, усиливается в результате смыслового столкновения грамматически не связанных слов: мечтательно мычала корова ; З) метафоричность, заключенная в грамматически связанной паре, входящей в независимую часть трехчленной конструкции, также усиливается смысловым столкновением грамматически не связанных слов: веселое лицо дома ; 4) обе грамматически связанные пары слов семантически необычны, в результате чего грамматически промежуточное слово характеризуется «удвоенной» метафоричностью: крики рвали воздух .
Особо следует остановиться на метафорах-приложениях у В. Набокова. Эти примеры немногочисленны: дрожала светлая капля - первая звезда ; кухарка - гроза базара; легкая, ласковая человеческая труха (о вещах); люди, тени его изгнаннического сна; человек – наглухо заколоченный мир и т.п.
Широко распространен в романе прием развития метафоры, который состоит в том, что к метафорически употребленному слову добавляется элемент, как бы возвращающий ему первичный, прямой смысл: оленьим голосом вскрикнул автомобиль . В сочетании со словом автомобиль глагол вскрикнул употреблен метафорически: звук автомобиля напоминает голос оленя, то есть речь все-таки идет о звуке, лишь похожем на голос. Но не теряющийся и в двухсловном сочетании вскрикнул автомобиль намек на прямое значение глагола (обозначение действия живого существа) поддерживается словом голос . Игра на двух употреблениях слов в таких случаях делается более заметной, метафоричность - углубленной, развитой.
Морфологическим элементом, развивающим метафору, прежде всего, является наречие: пустынно и нежно цвела крымская весна; тяжело и пушисто пахло черемухой. Метафора может развиваться существительными: боль клином впилась в сердце, поезда... пробирались сквозь дом; сухие, человеку преданные, мышцы (собаки). В случае с обособленными прилагательными (последний пример) метафору развивает второе прилагательное, в таких же примерах, как: выползали молчаливые дома; лился густой овес - развивающим метафору элементом можно признать и прилагательное (тогда метафора, прежде всего, выражается глаголом), и глагол (тогда основная метафоричность заключена в прилагательном).
Излюбленным способом развития метафоры у В. Набокова является сравнение. К слову, употребленному метафорически, присоединяется сравнение (сравнительный оборот, творительные сравнения, сравнительное придаточное предложение), углубляющее образ, заложенной в метафоре: Краска горячо щекочет лоб, словно он напился уксусу .
Прием развития метафоры представлен у В. Набокова широко и многообразно. В небольших по объему контекстах, в отдельных предложениях, находим последовательный ряд сочетаний такого характера: Память... перескакивала через пустые, непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой.
Прием может тем или иным способом усложняться, в результате чего возникают насыщенные метафорами сложные и нередко очень емкие образы: ...Ганин никак не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома: вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, наконец, с холодным звоном в окно ... Так и жил весь дом на железном сквозняке.
Что касается семантических типов метафор, то еще Квинтилиан описал четыре основных: 1) неживому – живое (неживому приписывается свойство живого); 2) неживому – неживое (неживому приписывается не характерное для него свойство живого); 3) живому – живое (живому приписывается не характерное тля него свойство живого); 4) неживому – неживое (живому приписывается свойство неживого).
-
1 . Неживому – живое (237 примеров). Приписывание свойств живых существ предметам и явлениям неживой природы составляет сущность олицетворения как основного вида метафоризации и способа художественного освоения действительности вообще.
У В. Набокова можно выделить две разновидности таких метафор: «оживление» предметов неживой природы и их «очеловечивание».
К первой разновидности относятся случаи наделения неодушевленных предметов свойствами чисто животного порядка: мысли ползли без связи; взбегающие скаты; черный шелковый бант, распахнувший крылья; вагоны с темными сучьими сосцами вдоль крыш; улица оживала и т.п.
По выразительности более интересна и значительно более многочисленна у В. Набокова вторая группа олицетворения, которую можно было бы назвать и своеобразным, художественным, антропоморфизмом, – очеловечивание, состоящее в том, что предметам неживой природы приписываются человеческие свойства, свойства существа мыслящего, действующего осознанно и целеустремленно [1, с. 37]: Пели ветер, и гуденье телеграфных проводов, и счастье; почерк, словно бегущий на цыпочках; хромая скамья; заспанный грохот поездов и другие многочисленные примеры.
Чрезвычайно разнообразие и необычность объектов, которым приписываются свойства живого и человеческого. Олицетворяются
-
– вещи: пузатый буфет; одно кресло скучало у Ганина; столы, стулья, скрипучие шкафы, ухабистые кушетки разбрелись по комнатам и разлучились друг с другом;
-
– постройки: голый коридор; унылая столовая; слепые стены; скучноватые улицы; мост, ожидающий очередной гром вагонов; певучая дверь;
-
– поезда, пароходы, автомобили: Далеко-далеко крикнул безутешно и вольно паровоз; крейсер покоился на золотистых текучих столбах своего же отражения; быстрый автомобиль затормозил и выругался, едва не задев его;
-
– растения: ослепив спящую березу; дорогу охватили березы; трава, избежавшая косарей; голая яблоня; головка кувшинки; грустные рябины;
-
– одежда: легкая, дышащая блуза; смутный угол ее банта; тощая пачка белья; на стуле, раскинув руки... смутно белела в темноте сброшенная рубашка;
-
– ветер, сквозняк: железный сквозняк; ветерок толкнул раму; щекотка ветра;
-
– вода, волны, реки, море: млеющий блеск моря; волна, бьющая через парапет на панель; пена... обнимала нос парохода; бледное вино;
-
– свет: бледноватый, загробный свет; смутно блестел асфальт; свет горел желтовато и холодно;
-
– времена года, части суток: весна бродила по Берлину; глядела звездная ночь; дни пошли радостные бодрые; осторожно темнеющий вечер;
-
2 . Неживому – неживое. Самая многочисленная группа – 449 примеров.
Специфический случай олицетворения – приписывание свойств человека (как разумного или просто живого существа) его изображениям, часто – скульптурным: дагерротипы на стенах слушали; на площади, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке . Предметам как бы возвращается их первичная одухотворенность, метафоризация в таких случаях осуществляется легче, представляется более естественной, чем и пользуется писатель, склонный к ней вообще.
Семантическая структура таких метафор, столь многочисленных у В. Набокова, характеризуется значительно большим разнообразием, чем олицетворение.
Вот признаки, приписываемые явлениям в пределах этого типа метафорических сочетаний:
-
- тепло, холод: холодная усмешечка; холодный запах духов; теплая уединенность; еще не остывшие подробности;
-
– запах: душистый холодок; сладкие духи; случайный запах;
-
- скорость: медленное сердце; быстрые облака; быстрый голос;
-
– цвета: тусклый роман; мутные сумерки; туманная дремота;
-
- вкус: горькая пыль; водянисто-сладкая малина;
– звуки: гулкий паркет; шелестящая тьма; многолиственный шум дождя; бесшумные березы; гудящий туман; шуршащая тропинка; журчащий сумрак; моросящая тьма.
Можно указать и на многие другие, самые разнообразные, предметно-вещественные свойства, а также действия: мертвая мебель в чехлах; липовый сумрак; проведенные лунным ногтем рельсы; плащи солнца; рукава прожекторов; веер полотна; лубочная музыка; тяжелая любовь; тупые ножки; водянистые глаза; теневое очарование.
Разнообразен перечень наиболее распространенных объектов неживой природы, которым приписываются необычные для них признаки из области той же природы:
-
- свет и темнота: свет, обливший скатерть; мутные сумерки; журчащий сумрак; шелестящая тьма; липовый сумрак; томная темнота;
-
– солнце, луна и т.п.: лужи луны; воспаленное солнце ;
-
– ветер: сладкий ветер, железный сквозняк; табачное дуновение ;
-
– воздух: волна воздуха; черный воздух осени; мутный воздух ;
-
- холод и тепло: душистый холодок; печальная теплота; темная прохлада;
-
– части тела: угольные ресницы; лицо, всплывшее после многих лет забвения; водянистые глаза; узел косы; бархатные уши; тупые ножки; влажные глаза; зеркальночерные зрачки;
-
– звуки и голоса: бархатная тишь аллей; пасмурный вздох; воздушный шорох; потушил ладонью... звон гитары; роскошный вздох ;
-
– времена года, части суток: берлинская весна; осторожно темнеющий вечер; молочный день; конец июля пахнет слегка осенью;
-
– мебель и т.п.: мертвая мебель; янтарный паркет; постель поплывет через всю комнату в окно; кровать скользит в жаркое ветреное небо; гулкий паркет и др.
-
3 . Живое – живому. Случаи таких метафор немногочисленны – их всего 14.
-
4 . Живому – неживое. Такие метафоры также сравнительно редки (24 случая).
Семантическая необычность сочетаний достигает у В. Набокова и степени оксюморона в тех его проявлениях, когда связываются слова с логически исключающими друг друга или с противоположными понятиями: шелестящая тишина; дряхлая мощь; грустный и медлительный юмор .
Такие метафоры проявляются в первую очередь в той разновидности, когда животным приписываются свойства и действия человека. В реалистических в принципе текстах животные могут думать и даже говорить: мечтательно мычит корова; понурые спины задумчивых лошадей . Эти употребления слов, так или иначе очеловечивающие животных, по своему значению и функционально смыкаются с рассмотренными в первом семантическом типе метафор случаями очеловечивания явлений неживой природы.
Случаи переносов обратного порядка (в пределах третьего семантического типа метафор), когда человеку приписываются свойства и действия животных, также немногочисленны и более или менее однообразны, связаны с воспроизведением звуков, издаваемых животными, иногда – с характеристикой внешнего вида: Подтягин мычал; он... стал что-то мурлыкать; человек двадцать солдат из сельского лазарета, нахохленных .
Это, прежде всего отнесение к человеку некоторых предметных свойств: очень уютная барышня; мягкий старый поэт; затейливые танцоры и т.п.
Немногочисленность метафор этого типа у В. Набокова в целом соответствует традициям русской прозы, для которых характерно, прежде всего, олицетворение, затем следуют метафоры, связанные с взаимодействием разных проявлений неживой природы, и метафоры, приписывающие животным человеческие свойства, и лишь потом – отнесение к живому свойств неживого.
Итак, с точки зрения грамматической метафоры Набокова – это в основном двучленные сочетания прилагательных и глаголов с существительными. Не очень высокая употребительность генитивных метафор говорит, очевидно, о том, что свою художественную задачу Набоков видит не в переименовании мира, а в том, чтобы, оставляя неизменным мир вещей, по-новому его характеризовать. Количественный и качественный анализ семантических типов метафор выявил стремление Набокова оживить и очеловечить вещи, предметы и явления живой и неживой природы.
Список литературы Авторская метафора в романе В. Набокова "Машенька"
- Акимова Э. Н. Семантическая структура метафор у В. Набокова // Филологические заметки: межвуз сб. науч. тр. - Bып.VI. - Саранск, 1999. - С. 35-39. EDN: ZCEWBF
- Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи: Природа вторичной номинации. - Киев: Наукова думка, 1986. - 142 с.
- Набоков В. В. Машенька // Собрание сочинений: В 4 т. - Т. 1. - М.: Худож. лит., 1990. - С. 17-89.