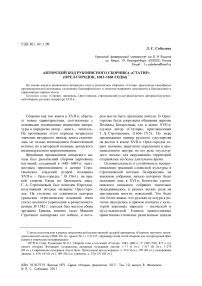Авторский код рукописного сборника «Статир» (Орел-городок, 1683-1684 годы)
Автор: Соболева Лариса Степановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа выявленного авторского кода в рукописном сборнике «Статир» прослежено своеобразие проповеднической интонации, соединение биографического и этикетно-жанрового компонента в Предисловии и завершающих виршах книги.
"статир", проповедь, орел-городок, строгановский культурный регион, авторский рукописный сборник, русская литература xvii в
Короткий адрес: https://sciup.org/14737589
IDR: 14737589 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Авторский код рукописного сборника «Статир» (Орел-городок, 1683-1684 годы)
Сборник как тип книги в XVII в. обретает новые характеристики, соотносимые с основными тенденциями изменения литературы в парадигме автор – книга – читатель. На протяжении этого периода возрастало значение авторского начала, книга становилась не только воплощением божественной истины, но и авторской позиции, авторского индивидуального миропонимания.
Ярчайшим проявлением авторского начала был рукописный сборник церковных поучений, созданный в 1683–1684 гг. неизвестным проповедником в центре Строгановских владений второй половины XVII в. – Орле-городке 1. В 1564 г. на правой стороне Камы на Орловском мысу Г. А. Строгановым был возведен Кергедан, получивший позднее название Орел-городок. На столетие он становится центром уральских строгановских владений, имея статус военного укрепления и ремесленного центра. В 1582 г. городок был местом сбора дружины Ермака, именно здесь Максим Строганов экипировал его войско, в кото- ром могли быть орловские жители. В Орле-городке была сооружена обширная церковь Похвалы Богородицы, где в конце XVII в. служил автор «Статира», приглашенный Г. Д. Строгановым (1656–1715). По мере продвижения границ русского государства на восток в конце XVII в. Орел-городок теряет значение защитного укрепления и промышленного центра, но его роль «культурного гнезда» для окружающих территорий сохранялась на более длительное время.
Основательность и устойчивость воспроизведения традиций словесной культуры в строгановской вотчине базировались на книжном собрании, начало которому было положено еще в XVI в. Богатство строгановского книжного собрания тщательно поддерживалось в разных ветвях рода на протяжении многих поколений. Это было тем более важно, что русская культура в регионе находилась в прямом контакте с культурой коренных народов – языческой и мусульманской. Единые православные нравственно-этические религиозные идеалы
* Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)».
в условиях новообретаемых земель должны были способствовать укреплению законности и порядка, а задача обращения в православие местных народов стимулировала проповедническую деятельность священнослужителей.
О времени написании книги говорит в рукописи приписка киноварью, сделанная автором в конце предисловия к сборнику: «Начася лета 7191 году, м(еся)ца априллия в 8 день, написася же 192 году, августа въ 20 день при державе б(о)гоизбранных ц(а)рей и правоверных г(осу)д(а)рей двою братов Иоанне А[ле]ксиевиче и Петре А[ле]ксие-виче. В вотчине имянитаго ч(е)л(о)в(е)ка Григория Димитриевича Строганова на Орле-городке на устье Яйвы реки» 2. Авторское самосознание воплощается в различных компонентах организации «Статира»: в заголовке, в предисловиях и послесловиях, где автор позиционирует свой подход к сочинению (каузальность биографического, общественно-политического, культурно-эстетического характера), обрисовывает жанр, источники текста, определяет цель и адресаты произведения 3. Авторская позиция имплицитно присутствует на всех глубоких уровнях текста: в композиции и стиле памятника, в выборе актуальных тем, в пафосе и т. п. Дальнейшая характеристика авторского начала возможна только при полном и подробном исследовании сборника. На данном этапе основное внимание обращено на авторский комплекс, наличие которого особо выделяет сборник и свидетельствует о творческом характере литературного процесса в Строгановском культурном регионе конца XVII в.
Рукопись была открыта в первой половине XIX в. А. Х. Востоковым, обратившем особое внимание на ценный памятник, в котором содержались оригинальные поучительные слова на церковные праздники [1842]. В описании им были опубликованы отрывки из Предисловия, которые явственно свидетельствовали о риторическом таланте автора, информировали о месте и времени создания рукописи. Во второй по- ловине XIX в. упоминание о сборнике находит место в учебниках по церковному красноречию, что говорит о безусловном признании художественных достоинств текста (см.: [Знаменский, 1896. С. 304–305; Потор-жинский, 1879. С. 289–303]).
Вновь к подробному описанию рукописи обратится в 60-х гг. XX в. богослов П. Т. Алексеев [1965], тщательно датировавший памятник по филиграням и рассмотревший его структуру, выявивший некоторые особенности в содержании, говорящие об исторических, астрономических, географических познаниях автора. Неоднократное упоминание сборника в исследовательских штудиях на сегодняшний день сочетается с немногочисленными работами, касающимися развития риторического искусства (А. С. Елеонская, В. М. Живов, А. Н. Робинсон), определением возможного автора сборника (П. Т. Алексеев, А. А. Введенский, Н. А. Мудрова, Д. М. Буланин), историей развития церковного образования (А. В. Карташев), характеристикой культуры Строгановской вотчины на Урале (Л. С. Соболева) 4.
Заранее оговоримся, что в данной работе не затрагивается вопрос об определении имени конкретного автора сборника. На эту тему написано немало, но главный вывод, сформулированный Д. М. Буланиным [1980], что знание источников не позволяет на сегодняшний день назвать имя с научной достоверностью, остается правомерным. «Романтическая биография» автора (определение Т. В. Буланиной), созданная в работе А. А. Введенского [1962. С. 240–241] на основании сведений, устно сообщенных историку П. Т. Алексеевым (много сил отдавшим переводу памятника на современный язык), стала основой вымышленной биографии в повести В. Шенталинского «Статир» [2007. С. 71–103]. Используя сведения из описания А. Х. Востокова, из статьи П. Т. Алексеева и гипотезу А. А. Введенского (преимущественно без ссылок на авторов), журналист создает образ мятежного, затем репрессированного писателя духовного звания Потапа Прокопиева (Прокофье- ва) 5, участника Разинского восстания (!). Выражение им протестных настроений в церковных поучительных словах «Статира» в дальнейшем якобы послужило причиной не только его преследования, но и изъятия рукописи из читательского процесса. Панегирический пафос сопровождается в повести многочисленными анахронизмами и историческими неточностями в характеристике идей времени, некорректной трактовкой христианских установок этического и онтологического характера. (Их перечисление и критика не входят в задачу данной статьи.) Частично оправданием могут служить те обстоятельства, что, во-первых, подобного рода неточности проистекают из предыдущих работ 6, а во-вторых, журналистом владела благородная цель – пробудить внимание к памятнику в широких читательских кругах, педалируя естественный интерес и сочувствие публики к «узникам совести», с которыми В. Шенталинский сопоставляет автора «Статира».
Памятник, разделенный автором на две части, содержит 156 поучительных слов на различные праздники. Части неравнозначны: первый раздел включает в себя 111 поучений, начиная с Пасхи, до страстной субботы (л. 1–517, II сч.). На некоторые недели положено два поучения, некоторые недели пропущены по авторской воле, так как нумерация листов, принадлежащая писцу, идет подряд. Вторая часть содержит 45 слов (л. 1–279, III сч.), из которых последнее («На ленивыя в церковь приходити») приписано после молитвы «по совершении книги сея» и силлабических вирш «в них Богу благодарение и на завистников дерзнаве-ние» (л. 272 об., III сч.).
Главным компонентом, раскрывающим авторскую волю, следует признать обширное Предисловие, состоящее из двух частей (л. 1–17, I сч.). Эта часть сочинялась после составления сборника, о чем пишет сам автор, ее присутствие в памятнике придает сборнику целостность, раскрывая внутренние переживания автора, настраивает читателя на единую с писателем эмоциональную волну. Из авторских компонентов композиции сборника надо выделить наличие в каждой части оглавления, молитв об окончании работы и заключительных вирш.
Наше обращение к Предисловию обусловлено желанием понять художественный замысел проповедника, обрисовать его представления о назначении своего труда, конкретизировать историческую психологию автора памятника и его читателей / слушателей. Не менее актуальна эта тема для характеристики тех инноваций, которые происходят в сборниках духовного плана накануне Нового времени.
Весь период, а в особенности вторая половина XVII в., испытывает доминантное влияние украинской словесной культуры в жанрах красноречия. Эта тема основательно изучена в современной гуманитаристике, включая многообразные труды по истории риторики. Имена исследователей отвечают важности данной тематики для раскрытия особенностей словесной культуры указанного периода. Это классики национального литературоведения: Д. С. Лихачев, И. П. Еремин, Л. А. Софронова, А. С. Елеонская, Л. И. Сазонова, А. М. Панченко, Е. К. Ромодановская и др. Перекличка с украинскими авторами была не только в обращении к цветистому и многословному стилю, сформировавшемуся в своеобразное московское барокко, но и в повторении структуры кни- ги, включении в текст указаний на цитированные источники, с обязательными предисловиями и послесловиями, в которых прописывались авторские целеустановки и регламентировались читательские ожидания. Предисловиями и послесловиями снабжаются как новосозданные книги, так и традиционные богослужебные издания (см.: [Лабынцев, 1981. С. 276–290]). Тематика и стилистика предисловий и послесловий из старопечатной литературы XVI–XVII вв. были основательно проанализированы в специальном издании прошлого века [Русская старопечатная литература…, 1981]. Авторитетный коллектив обратился к исследованию разнообразных функций, генезису, различным тематическим граням предисловий и послесловий, по сути, обосновав появление оригинальных жанров, связанных с писательской рефлексией.
Значение Предисловия к «Статиру» было высоко оценено А. Х. Востоковым, опубликовавшим в 1842 г. из него несколько отрывков при описании сборника [1842. С. 629–632]. Более полная публикация Предисловия, откорректированная по нормам языка XIX в., была предпринята И. Яхонтовым [1883] при издании некоторых поучительных слов из сборника, здесь же приведены завершающие первую часть сборника молитва и силлабические вирши 7. Обращение к Предисловию преимущественно как к источнику биографических сведений об авторе сборника, кроме вышеприведенного труда И. Яхонтова, было характерно для И. Малышевского [1861], С. Богословского [1916], А. А. Введенского [1962].
Семантику предисловия к «Статиру» в историко-литературном контексте отметил А. Н. Робинсон, указывая на оценку автором книг Симеона Полоцкого, Иоанна Златоуста [Робинсон, 1971. С. 66–67; 1974. С. 346]. Более подробно Предисловие изучал
А. С. Демин, по мнению которого памятник может раскрыть настроения «местной группировки читателей и слушателей» [1981. С. 225]. Исследователь извлекает из Предисловия к «Статиру» доказательство массового состояния «отчужденности», отстранения от литературы населения региона [Там же. С. 241]. С ораторской прозой демократических кругов связывает «Статир» А. С. Елеонская. Ее тонкие и глубокие наблюдения над текстом, чрезвычайно существенные для понимания памятника, вступают в определенный контраст с главным выводом об ученичестве автора, свойственном ему «неумеренном заимствовании», эклектизме и «половинчатости». Сопоставляя проповеди «Статира» со старообрядческими сочинениями, исследователь заключает, что автор «не смог подняться до сокрушительной критики существующего строя» [1990. С. 191]. К чести автора, надо отметить, что это не входило в его задачу. В «Статире» автор стремился найти единство в развитии светского и клерикального начал жизни общества, обозначить конструктивные модели поведения в различных сферах жизнедеятельности и христианско-этический образ мыслей для спасительного вектора человеческой судьбы.
Предисловие состоит из двух частей: «Предсказание о именовании книги сея» и «Предисловие к читателю». В Предсказании обыгрывается слово «статир» («Статир ю именую и вину названия сице изъявлю», л. 1), – с семантикой которого соотносятся как авторская богословско-просветительская задача, так и структура книги. Автор перелагает притчу о золотой монете – ста-тире, извлеченной «теплейшим» учеником Сына божьего Петром, из выловленной рыбы, чтобы, по указанию Христа, заплатить сборщику налогов «за Мя и за ся». Талант автора в полной мере проявился в выборе названия сборника и его умелой, многослойной интерпретации. Писатель в тексте памятника дает богословское толкование образа монеты: «Статир же есть камень честен, иже в Сирии родится, или четвертая часть златицы, д(у)х(о)вне же разумеется Статир – исповедание слова Б(о)жия» (л. 8). Монета, которая имеет две стороны, творческим воображением превращена в символ соединения двух пространств: небесного и земного. Два мира – один сакральный мир христианского мифа, второй земной, полу- чающий высший смысл через призму притчи, – выстраиваются в Предсказании. Как Христос велел Петру взять удочку и поймать рыбу, так и «благий глас» велел автору: «Не унывай, человече!.. Верзи, яко уди-цу ума твоего, внутрь многомятежнаго смысла своего, – и обрящеши Статир, даждь его во сл(а)ву имени Моего и в свое искупление» (л. 2). «Статир» становится символом золотого слова проповеди, которым прославляется Господь и спасается человек. В данном приеме узнается характерное для искусства барокко соединение образа и интерпретации, представленное в творчестве Симеона Полоцкого, хорошо известного автору «Статира» [Еремин, 1948]. Приемом дихотомии пронизано все Предсказание. Через евангельский образ, со ссылкой на «блаженного Феофилакта» (Феофилакт Болгарский, автор «Учительного евангелия»), в сборнике подчеркивается целостность авторского выбора тем для поучений, формулируется высший смысл авторской задачи – спасение душ прихожан в пространстве бурного жизненного моря.
Притча дает ключ к изъяснению двучастной структуры книги: в первой части находятся Слова, посвященные праздникам пасхального и послепасхального цикла («в славу Б(о)жию»), вторая часть («во спасение людское») содержит поучения на годовые праздники и наиболее важные события человеческой жизни («На воссоздание храма», «К новобрачным», «На погребении мертвых телес»). И хотя подобная структура не является изобретением автора «Статира» 8, она получает в памятнике символическое обоснование.
В центре Предсказания и Предисловия оказывается образ автора, многоаспектность и сложность образа существенно отличает этот памятник от ему подобных. Помимо первой части, авторская интонация пронизывает все учительные слова: эмоционально оценивается описываемая ситуация, происходит прямое обращение к читателю / слушателю, приводятся горестные сетования на происходящее. В Предсказании образ автора создается на пересечении его драматических переживаний. Описание внутренних волне- ний сочетается с приемом самоуничижения. Автор именует себя «убогий и грешный», «невежа», «скотоподобна суща», обвиняет себя в том, что его усилий недостаточно для обращения прихожан к праведной жизни: «Ох, горе себе помышляя, зрю стадо Хр(ис)т(о)во не на пажити д(у)х(о)вной мною пасомо, но по стремнинам всякаго беззакония волком д(у)шегубителем расхищаемо» (л. 1 об.). Это глубоко волнует проповедника, что передается через восклицания, риторические вопросы, систему сравнений: «…смутися моя бедная д(у)ша и вострепета моя внутренняя, обступиша мя часто обстоятелнии помыслы и колебаху ума моего, яко данницы истязующе и яко червие древо с(е)рдце мое снедающе, о своем ми недостоинстве зазирающе и о погублении овецъ устрашающе» (л. 1 об.). Прием амплификации успешно используется в тексте, причем без излишнего нанизывания синтаксических конструкций. Написание «Статира» становится самооправданием писателя, автор характеризуется как обладающий «многомятежнаго смысла» в контексте «непостояннаго века». Изменчивость времен и непостоянство человека определяют поступки и переживания автора. В канон самоуничижения вторгаются личные мотивы: автор пересказывает биографию последних насыщенных событиями и переживаниями десяти лет. Перед нами своеобразные этапы жизни, приведшие его к написанию «Статира». Сведения о низком «неосв(я)-щеннаго корене, ни от славьна рода» происхождении писателя необходимо воспринимать в контексте идеи изменчивости судьбы, ее взлетов и падений, препятствий и успешного их преодоления в достижении цели. Объявляя прадеда скотопасом, деда «портнягой», а отца кожевником «усмарем», автор тактично добавляет: «Не их, родившая, поношаю, но свою худость изъявляю» (л. 3), что согласуется этикетным смирением автора в древнерусской традиции 9. Повествуя о себе, писатель создает достаточно развернутый образ не только авторских действий, но и авторского противоречивого душевного состояния. Первая ступень – пять лет, проведенных в обители Пыскор-ского монастыря, где он имел возможность познакомиться с изданиями украинских проповедников и книгой проповедей Кирилла Транквиллиона «Евангелие учительное» (Рохманово, 1619).
Уход из монастыря сопровождается душевным смущением и «колебанием», трактуется как ошибка, вместе с тем вполне вписывается в понимание судьбы как чередования разнонаправленных интенций («не бых доволен злый мой и многовожделенный нрав саном дьяконства»). После Пыскора, второй ступенью образования писателя было его служение в течение двух лет «у Соли Камской» в церкви Рождества Христова, где его «объяли беды». На третьем этапе автор сам обращается к творчеству, сочиняя и записывая проповеди для прихода.
Свою судьбу автор соединяет с деятельностью Г. Д. Строганова «зелному бл(а)го-честия рачителю и вселюбезнейшему ц(е)р-к(о)внокрасителю и бл(а)гохотному строителю» (л. 4), указывая на то, что этот «велико-именитый» господин призвал его к себе в Орел-городок для служения в церкви во имя Похвалы Богородицы. В памятнике создан настоящий панегирик Строганову, замеченный уже первооткрывателем рукописи. Похвала 27-летнему землевладельцу написана в тех же параметрах и традициях, что и похвалы российской правящей элите в печатных книгах. Главная добродетель Г. Д. Строганова – любовь к священнослужителям, создание церкви, ее украшение книгами, ризами и колоколами. Упоминание в Предисловии о благословении архиепископа Вятского и Великопермского Ионы позволяет подтвердить дату создания рукописи, так как архиепископом Иона был именован в 1682 г. (см.: [Коган, 1993. С. 86]). Иона отличался требовательностью к строгости нравов, большими строительными проектами и вниманием к словесности 10. В своем ярко выраженном стремлении к развитию культуры на месте, связях с московскими кругами он явно перекликался с интенциями в деятельности Г. Д. Строганова. Близок Иона был Строганову в приверженности к личности Петра Великого (впоследствии этому государю он препоручает в духовной грамоте храмы и клир своей епархии). Поиск кандидата в церковь Похвалы Богородицы в Орле-городке увенчался успехом: автор «Статира» обладал не только знанием законов составления проповеди в традициях украинско-московской школы, но и явным чувством языка, умением увидеть острые проблемы времени, воплотить идеи в талантливом образном изложении.
Строганов сравнивается автором со «страннолюбивым» Авраамом и новым Иовом, что должно было подчеркнуть масштаб личности Георгия Дмитриевича и его боголюбивость. Писатель детерминирует авторскую судьбу милосердием благодетеля, замечая, «зело мя любезно с честию при-ятъ аки сущаго о(т)ца и велие ми покорение показа и во всемъ мя по воли Б(о)жии / радостно послуша и всемъ домочадцем своим зелне заповеда, еже въ велицей мя чести грешнаго имети» (л. 4 об.). «Мене же, греш-наго, паче всехъ любя и упокоеваше…», – сообщает далее автор читателю. Следует сказать, что здесь уже нет элементов самоуничижения. Напротив, автор с понятной гордостью замечает, что ему была дана полная власть «церковного правления», что даже более опытные и старейшие священники не обладали такой властью.
Этикетные характеристики Строганова как самого внимательного слушателя Святого писания соединяются с исторически достоверными сведениями о его любви к искусству пения: «О красоте же пения велми рачителствуя и домочадцев тщателно уча-ше… имяше же и мудрыя учители пению въ дому своем» (Там же). Как известно, в конце XVII в. церковный хор в Орле-городке под руководством Н. Дилецкого овладевает новым типом партесного пения, а известный музыкант пишет в эти годы теоретический труд по музыке 11. Образ Г. Д. Строганова, который создается во Вступлении, отвечает новым представлениям о современной активной личности «остроестественной при- роды», который с юных лет «многоденныя седины превзыде разумом смысла своего» (Там же). Вместе с тем автор настаивает на послушании Строганова церковным поучениям, его забота о служителях церкви вырисовывается как важная жизненная задача.
Тема взаимоотношений государственной и церковной власти, так явственно высветившаяся на соборах 1682–1683 гг., у автора «Статира» получила вариант в системе отношений «начальствующих» (чиновников), Строганова и служителей патронируемой церкви 12. Многие «началствующие», по мнению автора, желают, чтобы священник «слуга Б(о)га Вышняго, был бы пред ними, якоже последнейший раб» (л. 7 об.), отличается отношение Строганова – «истиннаго наследника места сего Григория Димитриевича, он бо б(о)гоподобне, любя и почитая ос(вя)щенный чин» (Там же).
Важной частью Предисловия становится описание процесса создания книги. Автор воспроизводит обстоятельства, способствующие появлению сочинений. Это и традиционное для жанра высшее призвание, идущее от Бога («На сие бо и родихся и позванъ бысть»), желание благодетеля (Г. Д. Строганова) создать соответствующий современным представлениям сборник проповедей. Важнейшим из современных требований автору представляется внимание к устному слову, произносимому в храме. Описывая ситуацию, сложившуюся в стране, он отмечает: «Слышах же, яко в России во многихъ градех премудрии с(вя)щенницы от устъ поучения читают, а не с книг, и лю-дие зело любезно послушаютъ со многим удивлением». Далее со ссылкой на Кирилла Транквиллиона (он называет его Кириллом Ставроменийским) автор объясняет преимущество устной проповеди, а традицию чтения книжных проповедей объясняет «яко оскудеша от ц(е)ркви мудрии учители». Желая привлечь слушателя, «поревновах», автор «начах многотрудием» составлять не- дельные беседы с нравоучением: «Ово в мысли сограждах, ово же писах на малыя тетратки и на свитки». Писатель перечисляет тех авторов и книги, которые послужили ему главными ориентирами творчества: «…велми же приседехъ книзе Кирилла Транквилиона, многая же слова от поучений его устно навыкохъ и зело любезно читахъ». В то же время он объясняет, почему для местных жителей, которые всегда стремятся услышать что-то новое, недостаточно было использовать произведения украинского проповедника: «Нецыи же жители в дому ея имеша читающе, пришедши же в ц(е)р-к(о)вь, слышатъ мя таяждо чтуща и сихъ ради моему чтению не внимаху, понеже ч(е)л(о)в(е)цы обычай имуть всегда новая слышати» (л. 6).
Другими, но не менее существенными причинами, автор объясняет, почему он не смог использовать сборники проповедей Симеона Полоцкого «Обед душевный» и «Вечерю душевную». Слог «люботруднаго» Симеона «простейшим людем за высоту словес тяжка бысть слышати и грубым разумом невнимателна» (Там же) 13. Возможно, неосознанно писатель обвиняет в непросвещенности не только слушателей, но и «чтущих», т. е. священников, с трудом произносящих поучения из известных книг, для которых даже учительные слова из самой известной книги бесед Иоанна Златоуста или главы из Деяний Апостолов «зело нера-зумително». Иронизируя, автор приводит высказывания местных священников, что Златоуст написан на иностранном языке: «Не точию от мирянъ, но и от с(вя)щенникъ иностраннымъ языкомъ тая Златаустаго писания нарицаху» (Там же) 14. Вот для таких «препростых страны сея жителей… Азъ, грубый, начахъ простейшия беседы издава-ти, ово устно, овоже написаниемъ», – пишет писатель, оформляя это как вынужденное признание автора (Там же).
Главными своими учителями, которые его «яко свешникъ освещаше», писатель признает книги Кирилла Транквиллиона («яко редкое слово без его речей минуло»), Златоуста, Феофилакта Болгарского. Но данный традиционный прием заимствования в контексте новой литературной установки на авторское слово требует от писателя объяснений. Орловский проповедник предупреждает читателя, чтобы тот не приписывал ему тщеславные помыслы использовать чужой труд («…ни же хощу въ чю-жемъ разуме себе разумна явити»), его привлекает красота слога и соответствие цитаты авторскому замыслу («яко зело ми приличествоваху къ моему сложению»). Объясняет писатель и своеобразие ссылок на чужие сочинения: имена цитируемых авторов он упоминает в тексте проповеди, но затем вплетает в свою речь высказывания святых отцов, поэтому конец цитаты не указывается: «А еже въ начале речи именовахъ: «Тако Златоустый или Феофилактъ гл(а-голе)тъ, или иный кий с(вя)тый о(те)цъ, окончанием 15 же не делихъ, еже доиде его беседа. То бо за боязнь, понеже бо не с ряду с(вя)тыхъ речи писахъ, но от нихъ заимст-вовахъ и между теми своя прилагахъ и впи-суя» (л. 9 об.). Необходимость в цитировании Златоуста, когда «речь под речь подчиняхъ о единой вещи беседовши», автор декларирует своей «простотой смысла» и «немощью слушателей».
Отдельным пассажем автор поясняет свою творческую позицию: «окроме буквы, Часослова и Псалтыри ничто же учихъ, и то несовершен[н]о. Грамматики иже ниже слышахъ, како ея навыкаютъ, а зря ея, яко иноязычнами зрится, риторики же нимало покусихся, а философию ниже очима видах, мудрых же мужей ни же где на пути в лице усретох, но токмо от Писания с(вя)т(а)го…» (л. 6 об.). Принципиальная позиция ряда русских книжников, отвергающих изучение грамматики и риторики как способа познания слова вне божественной мудрости, как явствует из работ Б. А. Успенского, базируется не на безграмотности, а на утверждении содержательной доминанты, противостоящей формальному знанию правил сочинительства. В национальной традиции, причем далеко не только старообрядческой, обращение к грамматике, риторике, «еллин-ским» мудрецам в XVI и XVII вв. могло свидетельствовать о приверженности к католичеству или даже к язычеству (см.: [Успенский, 1988]). Писатель из Строгановской вотчины, с одной стороны, явный приверженец украинской образованности, претендующий на высоту знаний и умение сопрягать в проповедях книжность и современные проблемы, но, с другой стороны, пройдя школу Пыскорского монастыря и будучи близок установке архиепископа Ионы на утверждение православных ценностей, связан с ортодоксальным православием.
Незаурядный талант автора обнаруживается в уникальном описании своего творческого состояния в процессе сочинения проповедей: «Многажды, егда пишущу ми и слагающу и тогда, аки въ бури шумней и во мраце ми бывшу, и уму моему безмолство-вати во мнозей пустыни и ничто же чювст-вующу и смыслу моему, аки уснувшу или яко исступлену сущу от мене, и всей моей разумней силе оскудевшей» (л. 9 об.).
Писатель, создавая предисловия, дифференцирует слушателей / читателей, к которым обращены проповеди. Проповедник обращается к читателю следующим образом: «Превозлюбленный читателю, б(о)ж(е)-ственныхъ словесъ рачителю, глубины словес премудрый пытателю…», затем уничижительно называет себя грубым невежею, чтобы подчеркнуть высокую оценку способностей адресата. Как синоним появляется ниже обращение: «О, бл(а)горазумный читателю…». И только такой читатель имеет право вносить исправления в его сочинения: «…на просодию расположи неправая склонения и неудобныя падежи, и несвойственная звания – вся сия премени» (л. 8). Именно для этого читателя, «скораго ради взыскания хотящим читати ю», предназначаются составленные автором оглавления, которые он помещает в начале сборника (относящиеся к первой части, л. 10, I сч.) и в конце книги (относящиеся ко второй части, л. 268, III сч.), подчеркивая тем самым проявление авторской воли в соединении поучительных слов в сборник.
Второй тип читателей – хулители, противники – «невегласи», не принимающие его поучения и всеми способами вредящие автору. Этим читателям автор запрещает прикасаться к тексту, «ибо неразумным не дерзати о своем смысле, аще и смутится ис- правляти», «аще не навычен еси граматиче-скаго учения и не начитался о(те)ческихъ писаний», «не дерзай искоренити или ис-правити, молю тя и завещаю и пред Б(о)гом засвидетелствую» (л. 5 об.).
Автор обращается к своим противникам, не боясь высказывать прямую угрозу, призывая через духовный труд достичь премудрости: «Остави, неразумная, тебе премудрейшим судити или у ведущих С(вя)тое Писание вопроси, не дерзай собою на мою же грубость, не уборзися, но собою потру-дися и прем(у)др явися» (л. 9). Авторское смирение и готовность терпеть («.. .хотяй мя порицает, хотяй мя укаряетъ, хотяй да смеется, но вся терплю, поминая Г(оспо)да моего смирение и терпение») сопрягаются с высокой оценкой своего труда («На сие бо и родихся и позван бысть»), сравнимого с деяниями апостолов («мене со въторонаде-сятым делателем причастия сподобит») и серьезной угрозой страшного суда хулителям - «...аз з губителем труда моего буду судитися въ д(е)нь страшнаго испытания пред нелицемерным Судиею, у Него же несть обиновения» (л. 9 об.).
Нелицеприятной оценке подвергаются «жители страны сея», которые укоряли, смеялись и порицали автора «зело бо невежества исполнении» (л. 7), автор же «въсем бых в претыкание». Если же жители и выражали почитание проповеднику, то ему кажется, «яко неистинне, но притворне: ово за страх г(оспо)д(и)на Григория Димитриевича» (л. 7 об.). Проповедник обвиняет жителей не только в лицемерии, но и в нежелании слушать церковные поучения. Преступая закон о почитании священства, они «друг друга развращающе, яко не слушати учения моего». Автор воспроизводит слова непросвещенной паствы, в которых проповедник противопоставляется прежним священникам. При этом рассуждения людей, изложенные профанным языком, противостоят языку проповеди по новым правилам риторики: «Прежде сего зде были с(вя)-щенницы добрыя и честныя, и тако не творили, жили же попросту, и мы были во изобилстве, а сей откуду неудобная въво-дит». В памятнике рисуется развитие острого внутреннего противоречия между священником и его паствой. Даже те из них, которые были им облагодетельствованы, выступают против, оскорбляя и порицая проповедника: «...яко люте мя оскорбляше врагъ чрез досады ч(е)л(о)в(е)ческия, их же, аз прежде любих д(у)ш(е)вне, и оныя мене и множицею от мене по моей силе обл(а)-г(о)д(е)телствовани быша, и тии на мя рато-ваху завистию и порицанием, и всякимъ хухнанием» (л. 6 об. - 7). В памятнике выстраивается своего рода интрига автора -новопоставленного священника орловской церкви Похвалы Пресвятой Богородицы - и паствы в союзе с прежними священниками. Эти довольно напряженные отношения вызваны требованием автора подлинного благочестия от жителей: «...зело бо невежества исполнени жители страны сея, яже пред рекох, велми бо мя укоряху и порицаху» (л. 7).
Автор воспроизводит конфликтную ситуацию в Орле-городке, где изменился в это время тип церковного пения, по новым законам изобразительного искусства московскими художниками была расписана церковь 16, обновлялось содержание церковных проповедей, откликающихся на актуальные проблемы времени и показывающих конкретные неурядицы и неприглядные образы местной жизни: «зело на злобу испотворни-чествованы людие сего места, не точию нас хощутъ покорных себе быти, но и ц(е)рк(о)вь с(вя)тую хощутъ и вся уставы ц(е)рк(о)вныя утренняя и вечерняя пения по ихъ грубому обычаю, дабы последовали, не точию от менших, но и от началствуемых и содержащих место сие» (л. 7 - 7 об.). Всем им писатель противопоставляет Г. Д. Строганова, намекая на некие силы, по указу которых в подобного рода интригах принимают участие священники «прежде мене бывъшии, и при мне сущии» (Там же). И только то, что они действуют «по коему изволению», позволяет автору простить их. Неприятие местными жителями сформированного новоявленным священником направления в церковной проповеди приводит к ситуации, когда прихожане отказываются посещать церковь и видеть ее красоты: «Мнози и ц(е)ркви тоя, у нея же азъ слу-жихъ, мене ради лишишася, ибо на мя, грешнаго, ненавиствоваху и бл(а)голепот-ствующия ц(е)рк(о)вныя красоты зрети не прихождаху» (л. 7 об.). Видимо, ситуация в течение указанных полутора лет обострилась настолько, что проповеднику пришлось в срочном порядке дописывать книгу и явно уже после завершения сборника вставить в конце сборника «Поучение на ленивыя в церковь приходити».
Автор явно стремится обозначить собственную позицию, не совпадающую с местными нравами: «И о сихъ всехъ въ книзе моего написания показуетъ» (л. 7). Приведенные высказывания, на наш взгляд, более свидетельствуют о приезжем человеке, который с некоторой долей горечи говорит об описанной земле: «…въ ней же ми обита-ти». Исправление нравов местных жителей становится его личной задачей не только по долгу службы, но и по зову души: «Егда же невегласи мене хухнаху, оныя тогда велича-хуся, аки крилати являхуся, а нимало слы-шаще возбраняюще имъ от хуления. А егда же азъ на яковой беседе со оными невежами прящися, бедствую о слове Б(о)жии и о законе хр(ис)тианскомъ и о ц(е)рк(о)внем благочинии, ни мало ми ту бывши спомогаху, но яко неми и безгласни пребываютъ, яко на мя поущающе» (л. 7 об.).
Проповедник напрямую обращается к своим прихожанам, при этом тональность его речей постоянно меняется. От жалоб и сетований он переходит к угрозам, сожаления о «невегласях» сменяются сомнениями в собственных возможностях, завершающие аккорды – мотивы прощения – соединяются с осознанием значения своего труда, хулить который можно только по незнанию.
Завершением вступления является просьба о прощении собственных грехов и грехов читателей, что было обязательной частью духовных завещаний: «Сего аз всем верным усердно желаю, аще и грешен и недостоин, но д(у)шевной м(и)л(о)сти Б(о)жия слушающим мя прощаю и от всего с(е)рдца приветъствую. Хулники же и порицати еще бо мои труды и на свет не проидоша, ниже от кого видени быша, а мнози прежде совершения их ругахуся, но их не укоряю, ни поношаю, но Б(о)га молю и прощения прошу, яко по неведению сия творят, аще бы имели разум, не бы тако дерзали и невидев-ши вещи хулиши; ибо от имущим разум никто же ми посмеяся, но вси моему неразумию прощали и учителства мне оставляти не повелевали, и о безумных хулниках пре-небрегати завещали» (л. 9). А в конце текста присутствует благословение и прощение грехов всей пастве: «По их всех буди на вас м(и)л(ос)ть Б(о)га О(т)ца и бл(а)гословение Г(оспо)да нашего Ии(су)са Хр(ис)та, бл(а)-г(о)д(а)ть и споспешение Прес(вя)т(а)го Д(у)ха. Мiръ и здравие, тишина и бл(а)-годенствие и всякаго требования изъобилие: въсем правоверным мужем и женам, старцем и юношам, старицам и девам, слушателем и пререкателем, хулником и любителем всегда и н(ы)не и в бесконечныя веки. Аминь» (л. 9 об.).
Однако автор не останавливается в своих личных оценках и жалобах во вступлении. Создавая своего рода кольцевую композицию, он вновь обращается к благодарному читателю и хулителю в двух виршах, завершающих вторую часть книги (л. 271, III сч.). В первых стихах он начинает с похвалы Господу: «Слава тебе, Г(оспо)ди мой и Б(о)же, / Яко ты ми совершити споможе» (Там же.), а заканчивает укоризной хулителям, которые даже не читали его книгу:
А они мене за то порицаху
И сей мой труд не видевши хуляху,
И в посмех мене трудившася въменяют,
И сладкая словеса огорчают
(л. 272, III сч.).
Второй текст представляет собой вирши, приближающиеся к произведениям Симеона Полоцкого. В них аллегорически представлены хулители в образах навозного жука, мухи и птицы неясыть, которые летают по разного рода нечистым местам. Этому роду читателей проповеди предлагаются, как мягкая пища для младенца, которая должна его «напитать»:
«Бл(а)говоли сию книгу читати,
И разумне ю потшися вънимати, По твоей бо немощи написася, Яко младое отроча питайся.
Иже ты твердыя пищи не можешъ, Почто мягкаго въкушати не хощешъ? Она бо есть доволна насыщати, И твою въсякую нужду удовляти, Ко сп(а)сению тя имать наставит, И на н(е)бо тя имать допровадит»
(л. 273 – 273 об., III сч.).
Таким образом, проповеди, заключенные в рамку из авторских высказываний, преобразуются в личные мировоззренческие по- стулаты, становятся событиями биографического характера. Сборник обретает физиономию не только учительно-проповеднического, но и лично-исповедального характера. Этот путь для литературы позволял, используя разработанные в недрах Средневековья жанры, обретать произведениям неповторимую индивидуальную интонацию. Она была обусловлена конкретнобиографическим фоном, на котором разворачивались темы проповедей, и передачей эмоционального мира писателя. В параллель к феномену усложнения жанровых качеств нашего сборника можно привести привнесение в житие протопопа Аввакума элементов духовного завещания – жанра, обретшего популярность в XVII в. (см.: [Понырко, 1985]).
Этой же цели – пропитать текст авторскими переживаниями – были подчинены молитвы, которые писатель располагает по завершении каждой части. В них шло прославление Христа и выражалась благодарность за помощь в создании книги.
В XVII в., по замечанию В. М. Живова, «основной корпус литературы остается духовным или церковным по своему содержанию и функционированию <…> именно эти тексты продолжали определять литературные и культурные нормы и служить основным литературным образцом» [2002. С. 326–327]. Но при этом традиционные церковные жанры становятся пространством, куда без изменения жанровой специфики, традиционных целей и поэтики встраиваются новые компоненты, несущие дополнительную семантику. Наиболее существенные изменения могли происходить в творчестве тех авторов, в чьих судьбах соприкасались события личной биографии и общественной жизни. Воплощением драматических столкновений становился авторский код произведения, многоступенчато представленный в сборнике «Статир». Это было логическим развитием литературного направления барокко, обретением пафоса гражданского строительства и постановкой задачи просвещения общества, которые и стали главными характеристиками направления в национальном варианте (см.: [Сазонова, 1991. С. 222–223]). Автор «Статира» оказался одним из самых оригинальных и самобытных в понимании своего значения и личной сопричастности к задаче укрепле- ния православной системы ценностей в конце XVII в.
Яхонтов И. Русский проповедник семнадцатого века и несколько статей из его сочинения «Статир». СПб., 1883. Переиздано с готовых диапозитивов: М., 1997. С. 3–15.
Материал поступил в редколлегию 21.01.2011
AUTHOR'S CODE OF THE HAND-WRITTEN COLLECTION «STATIR» («OREL-GORODOK», 1683–1684)