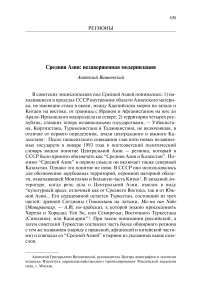Азия: незавершенная модернизация
Автор: Вишневский Анатолий Григорьевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Регионы
Статья в выпуске: 2, 1996 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911666
IDR: 14911666
Текст статьи Азия: незавершенная модернизация
Анатолий Григорьевич Вишневский, руководитель Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, г. Москва.
В настоящей статье речь идет о бывших советских республиках, и просто по соображениям удобства изложения надо сделать выбор между двумя терминами, ни один из которых нельзя считать ни однозначным, ни общепринятым. Не без колебаний мы склоняемся к тому, чтобы сохранить за интересующей нас частью постсоветского пространства наименование “Средняя Азия” (распространив его и на северный Казахстан). Понимаемая таким образом Средняя Азия складывалась постепенно, по мере расширения центральноазиатских владений Российской империи — с первой половины XVIII века, когда началось присоединение Казахстана, до 1885 года, когда завершилось формирование “русской” Средней Азии и окончательно определилась ее юго-западная граница, хотя оставались еще нерешенными некоторые пограничные вопросы на Памире, где последний пограничный столб был врыт в 1895 году.
В итоге русских завоеваний Средняя Азия покинула тюрко-персидский мусульманский мир, северной окраиной которого была на протяжении многих столетий, и превратилась с южную окраину Российской империи, вошла в другое, “евразийское” цивилизационное пространство. Соответственно недавний выход бывших среднеазиатских республик из состава СССР часто рассматривается как их возвращение к своим цивилизационным, культурным и геополитическим истокам. Но можно ли два раза войти в одну и ту же воду? Ведь вхождение в Российскую империю означало для Средней Азии не просто географическую переориентацию — это был исторический поворот, вовлечение в модернизационные процессы, которые, пусть и не без труда, набирали силу в России.
Правда, и в конце XIX, и в XX веке метрополия сама остро нуждалась в модернизации, которая, причудливо переплетаясь с милитаризацией, поглощала все экономические ресурсы империи. Это очень сильно ограничивало возможности модернизации окраин, тем более что они и не проявляли большой модернизационной активности. Догоняющее развитие, которое несколько веков держало в напряжении Россию, не играло большой роли в жизни ее южных колоний. Застойность среднеазиатских аграрных обществ не была поколеблена в конце XIX — начале XX века, они не ощущали особо острой потребности в переменах. Ни экономический рост, ни индустриализация не могли почитаться здесь за особое благо. Советская модель ускоренной экономической модернизации, отвечавшая прежде всего историческим условиям, в которых оказались в XX веке восточнославянские народы СССР и их имперская государственность, могла иметь лишь ограниченное применение в Средней Азии, проводилась здесь в жизнь в значительной степени с опорой на пришлое, “русскоязычное” население.
Конечно, здесь, как и везде, модернизация по-советски создавала возможности крупномасштабного исхода в города, получения образования, массовой вертикальной мобильности, глубоких перемен в образе жизни. Но ценности модернизации в Средней Азии намного чаще, чем в России или других европейских республиках СССР, сталкивались с традиционными ценностями, не получали широкой общественной поддержки, встречали пассивное неприятие, а нередко вызывали и активное противодействие. Нельзя сказать, что среднеазиатские общества начисто отвергали или отвергают перемены, не понимают значительности достижений “западной” цивилизации пусть и в их советской упаковке. Тем не менее здесь все еще очень широки слои, не осознающие необходимости всестороннего радикального обновления и надеющиеся на решение острейших сегодняшних проблем при сохранении традиционного жизненного уклада.
1985 год ознаменовал столетие окончательного завоевания Средней Азии и одновременно стал первым годом “перестройки” в СССР, принесшей новые изменения в ее судьбе. Что унаследовала Средняя Азия от этого столетия, с какими итогами подошла она к новому историческому повороту? Самый краткий ответ на этот вопрос гласит: главный итог развития Средней Азии в составе Российской империи и СССР — незавершенная модернизация .
Экономическая модернизация и урбанизация
К концу 80-х годов по всем экономическим показателям Средняя Азия находилась позади большинства районов СССР. Сравнительные данные не свидетельствуют также об экономическом прогрессе, который привел бы к резкому отрыву от таких стран, как Турция и Иран, использовавших иную модель развития. Лишь по сравнению с Афганистаном и Пакистаном республики советской Средней Азии развивались успешно. Но в целом их экономика была аграрной, отсталой и малоэффективной, а население — бедным (табл. 1).
В 1985 году главной сферой приложения труда, как правило, оставалось сельское хозяйство, на него приходилось 23 процента всех занятых в Казахстане, 34 процента в Киргизии, 38 процентов в Узбекистане, 41 процент в Туркмении и 42 процента в Таджикистане (соответствующие показатели для России — 14 процентов, для Турции — 19 процентов, для Ирана 36 процентов). Доля же занятых в промышленности составляла от 21 процента в Таджикистане и Туркмении до 31 процента в Казахстане (в России 42 процента, в Иране 33 процента, в Турции 29 процентов) 5.
В системе связей с другими частями СССР республики Средней Азии были прежде всего поставщиками сырья. Олицетворением этой роли региона стала монокультура хлопка, имеющая довольно давнюю историю. Накануне своего распада СССР был третьим в мире производителем хлопка-сырца (после Китая и США). Главными районами хлопководства были Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. Основные же текстильные центры были сосредоточены вне Средней Азии, на месте перерабатывалось лишь около 8 процентов производимого здесь хлопкового волокна. В производстве хлопка с наглядностью проявлялись типичные черты колониальной экономики: стремление при минимальных вложениях использовать дешевые экстенсивные факторы производства — дешевый труд и “даровые” природные ресурсы. Постоянное расширение орошаемых земель под хлопок увеличивало количество забираемой из рек на нужды полива воды, огромная часть которой терялась из-за применения отсталых технологий орошения. В конце концов это привело к экологической катастрофе. Аму-Дарья, древний Оксус, с незапамятных времен питавшая Аральское море, полностью высохла в ее нижнем течении. Ее дельта стала превращаться в засоленную пустыню, Аральское море начало исчезать с карты планеты.
Хлопок — самый типичный, но не единственный пример сырья, поставлявшегося Средней Азией. Ее сельское хозяйство производило на вывоз зерно, натуральный шелк, шерсть, каракуль, растительное масло, фрукты, овощи и т.п. По некоторым расчетам, только переработкой поступавшего из Средней Азии сельскохозяйственного сырья в середине 80-х годов в других районах СССР было занято не менее 1 млн. человек. Но сырье производила также и добывающая промышленность, из Средней Азии шли уголь и газ, цветные металлы, химическое сырье. Структура капиталовложений в промышленность отражала явное предпочтение добывающим отраслям. Например, в Туркменистане в первой половине 80-х годов в эти отрасли было направлено 80 процентов всех промышленных инвестиций. Такие же отрасли, как машиностроение, развивались слабо. Доля занятых в машиностроении в Туркменистане за 20 лет, с 1965 по 1985 год, выросла всего с 16,7 до 19 процентов. В Узбекистане она уже в 1965 году была выше — около 30 процентов, но за последующие 20 лет не изменилась.
Как и везде в СССР, в Средней Азии росла доля городского населения, но все же здесь она оставалась ниже, чем в большинстве других его районов. Более того, в 80-е годы ее рост здесь замедлился, а в Таджикистане и Туркменистане она даже снижалась. По доле городского населения государства Средней Азии существенно уступают не только славянским республикам бывшего СССР (Россия в 1990 году — 74 про- цента, Украина — 67 процентов, Белоруссия — 66 процентов), но также Турции и Ирану, хотя, конечно, превосходят Пакистан и Афганистан (табл. 2).
В Средней Азии в целом, особенно же в Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане все еще очень высока доля небольших городских поселений, насчитывающих менее 50 тыс. жителей. В них, как правило, сохраняются типичные черты сельских поселений и сельского образа жизни, многие из них лишь условно можно считать городскими. В середине 80-х годов всего 37 процентов городского населения жило в городах с населением свыше 250 тыс. человек (в Российской Федерации — около 50 процентов). В Киргизстане, Таджикистане и Туркменистане вместе взятых было всего 13 городов с населением свыше 50 тыс. человек, тогда как, например, в одной Белоруссии их было 20, хотя Белоруссия уступала этим республикам по населению, а ее территория в четыре раза меньше их совокупной территории 6.
Демографический переход
Вместе со всем населением СССР население Средней Азии прошло значительную часть пути от высокой к низкой смертности. Как и повсюду в СССР, этот путь был противоречивым. Средняя Азия пережила резкий подъем смертности в период коллективизации начала 30х годов. Особенно трагичными эти годы были для казахского народа. По некоторым оценкам, в 1931–1933 годах “число прямых жертв голода и эпидемии брюшного тифа... составило 1750 тыс. человек, или 42 процента всей численности казахского населения” 7.
Тем не менее Средняя Азия успешно прошла многие важные этапы эпидемиологического перехода, смертность здесь существенно снизилась. На рубеже 80–90-х годов по уровню смертности Средняя Азия в сравнении с сопредельными государствами находилась в лучшем положении, чем по многим другим показателям. По-видимому, это отражало особенности развития ее социальной инфраструктуры, опиравшегося не только на собственные ресурсы, но и на ресурсы всего СССР. Зато по уровню рождаемости Средняя Азия резко отличалась от большинства бывших советских республик, тут она имела много общего не только с другими мусульманскими странами региона (см. табл. 2), но и с большинством развивающихся стран. Переход к низкой рождаемости едва начался и шел очень медленно, особенно у сельского населения. Сохранение высокой рождаемости при снижении смертности привело к резкому ускорению роста населения Средней Азии. В 1939 году оно насчитывало 16,7 млн. человек, в 1950 —
17,7 млн. За последующие 40 лет оно почти утроилось и в 1990 году достигло 51 млн. человек 8.
Проблемы, порождаемые сохранением высокой рождаемости и, как следствие, демографическим взрывом, долгое время не осознавались ни в самой Средней Азии, ни в СССР. Планирование семьи, конечно, было знакомо городским слоям коренного населения Средней Азии, но распространялось медленно. Попытки властей занять более прагматичную позицию встречали сильное противодействие традиционалистски настроенной части общества, даже и его просвещенных слоев. Планирование семьи или вовсе отвергалось или критиковалось за то, что оно “ошибочно понимается как инструмент политики снижения рождаемости”, власти упрекались в том, что они поддались влиянию “промальтузиански мыслящих ученых и специалистов” 10. Общество явно демонстрировало свою неготовность вырваться из тупиков демографической архаики, демографическая модернизация тормозилась.
Социально-национальная интеграция
Испокон веку население Средней Азии было пестрым, неоднородным. Здесь жили бок о бок, нередко вперемешку оседлые земледельческие и кочевые скотоводческие народы, разные по традициям, культуре, образу жизни, богатству. Ограниченные пределами традиционных кочевий родовые сообщества скотоводов, обособленные в своих оазисах и горных долинах земледельцы веками пребывали в относительной замкнутости. Историческое развитие приводило к учащению контактов, одновременно порождая проблемы взаимодействия с внешним окружением, нередко враждебным, столкновения и конфликты. Локальная солидарность внутри небольших сообществ, выступавших как единое целое перед лицом внешнего мира, была поэтому необходимой предпосылкой выживания и соответственно одной из высших ценностей всех среднеазиатских обществ. Родоплеменное, территориально-клановое самоопределение было глубоко укоренено в базовых условиях существования людей, придавало особую прочность локальным социальным сообществам.
Эти базовые условия не исчезли с распространением ислама. Как и все мировые религии, он вносил представление о более высоком, чем локальный или государственный, уровне общности, формировал нечто вроде духовной империи, в рамках которой могли существовать очень большие сообщества людей. Тем не менее цивилизационное поле ислама не обесценивало локальных интеграторов, скорее напротив, оно охраняло их как одну из главных опор традиционного мира, идео- логию и культуру которого воплощал ислам. Этот мир был “средневековым”, иерархизированным, сегрегированным, основанным на совершенно иных принципах, нежели эгалитаристские принципы современного гражданского общества, не признающего никаких изначальных внутренних перегородок. Средняя Азия давала классический пример “вертикального” общества, мало чувствительного к тому, где проходили политические границы. Их изменения не затрагивали глубинных основ жизни относительно изолированных общностей людей, спаянных локальными интеграторами. Поначалу ничего не изменило в этом смысле и вхождение Средней Азии в состав Российской империи. Но постепенное вовлечение в модернизационные изменения означало для среднеазиатского общества усиление горизонтальных связей и неизбежно должно было подвести его к кризису локальных интеграторов, к оттеснению на второй план, даже стиранию локальных различий ради более широкой национальной консолидации — к созданию наций-согражданств. В целом оно и вело к этому. Следует с большой осторожностью относиться к распространенным в литературе клише, безоговорочно осуждающим советское “государственное строительство” в Средней Азии. Широко распространенное мнение о том, что в советский период здесь “единую, живую политическую общность буквально резали в угоду схеме, уродуя и уничтожая органично возникшую цивилизацию” 11, верно лишь отчасти, но даже в той части, в какой верно, оно не обладает необходимой глубиной.
Средняя Азия никогда не была единой политической общностью, а перекройка ее границ началась задолго до революции. Еще до завершения завоевания региона русское правительство начало упразднять прежние границы ханств и вводить российское административно-государственное устройство. Советское правительство, следуя принципам национально-территориальной автономии, сделавшимися популярными еще до революции и активно эксплуатировавшимися большевиками, стало создавать на месте дореволюционных областей новые национально-территориальные образования — республики и области разной степени суверенности. На протяжении примерно 20 послереволюционных лет их границы и статус многократно менялись.
В литературе часто подчеркивается случайность новых государственных образований, приводятся примеры произвольных границ, отсутствия исторической преемственности. Территория Бухарского эмирата в советское время была разделена между Узбекистаном, Туркменией и Таджикистаном; Хивинского ханства — между Узбекистаном, Каракалпакией, Туркменией и Казахстаном; Кокандского ханства — между Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном. Историческая преемственность была нарушена и при выборе центров республик. Так, когда Таджикистан входил в состав Узбекской ССР, его столицей стал не древний Ходжент, а исторически неизвестный Душанбе. После создания Таджикской СССР Ходжент, переименованный в Ленинабад, вошел в ее состав, но столицей остался Душанбе (Сталинабад). Самарканд и Бухара, места сосредоточения таджикской культурной и интеллектуальной элиты, остались в составе Узбекской СССР.
Все эти факты верны, но “случайные” границы и столицы — не новость в истории. Населенные узбеками, таджиками, туркменами, казахами, киргизами, каракалпаками, а управляемые узбекскими династиями Бухарское, Хивинское и Кокандское ханства тоже были в достаточной степени “случайными” образованиями. Они сложились на развалинах государств Тимуридов, часто воевали с соседями и между собой, их границы менялись, зависели не столько от исторической традиции, сколько от реального соотношения сил.
Спору нет, идеи, с которыми советские власти приступали к решению задач “национального строительства”, были довольно смутными. Но предположим, что за дело “национально-территориального размежевания” взялись бы более подготовленные люди. На что они могли опереться, “размежевывая”, например, живших вперемешку узбеков и таджиков? Как Средняя Азия никогда не знала национальной государственности, так она не знала и национальной (в современном смысле) культуры. Здесь издавна тесно переплетались арабско-персидские и тюркские культурные влияния. Несмотря на многовековое численное и политическое преобладание тюрков, персидские язык и культура всегда были важнейшей частью не только персидского, но и тюркского культурного наследия. Персидский язык до XX века сохранял значение своеобразной среднеазиатской латыни, языка религии, “двора, базара, администрации и литературы” 12. При всей огромной этнокультурной значимости языка, в Средней Азии он не служил безусловным признаком этнической принадлежности, мог свидетельствовать просто о принадлежности к определенному социальному или культурному слою.
О сложности самоидентификации в Средней Азии хорошо говорит пример, приводимый О. Руа. Для современных таджиков она может соотноситься с тремя разными критериями. Во-первых, с чисто этническим: все ираноязычные, живущие по обе стороны таджико-афганской границы и, как утверждают таджикские националисты, ведущие свою родословную от древних согдийцев. Во-вторых, с религиознолингвистическим: все ираноязычные сунниты, что включает ираноязычных жителей Афганистана, но исключает шиитов иранцев. В-третьих, с чисто лингвистическим: все ираноязычные; в этом случае “таджик” становится синонимом “иранца” 13. А ведь Таджикистан —
Валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения в бывших советских республиках Средней Азии и некоторых сопредельных странах, 1990, долл. США4
Более того. Согласимся с тем, что границы республик были проведены грубо и приблизительно, а ряд “ошибок” был сделан не без злого политического умысла. Разве это противоречит конечной цели любых “искусственных” модернизационных мер: вести к тем же результатам, что и “естественный” ход модернизации? И разве эти “естественные” результаты заключаются в консервировании тех культурно-исторических, этнолингвистических и прочих различий, которые можно было бы с большей тонкостью учесть при проведении республиканских границ? Пренебрежение этими различиями в каком-то смысле должно было входить в расчет любого законодателя-реформатора или, по крайней мере, отвечать его политическому инстинкту. В любом случае экономическая и социальная модернизация советского времени разрушала средневековые перегородки и готовила среднеазиатские общества к восприятию общегражданских критериев равенства. Тем самым она создавала возможность их превращения в нации в “искусственных” границах республик, которые могли восприниматься — и часто воспринимались — как все более
“естественные”. Объяснять нынешние этнические конфликты неправильно проведенными границами — значит уходить от объяснения.
Гораздо важнее, что становление нации вообще чревато глубоким внутренним конфликтом. Современные нации — это территориальные сообщества людей, осознающих единство своих экономических, политических и культурных интересов и потому враждебные всему тому, что противостоит сплоченности и разделяет общество изнутри. Носители национального сознания (в указанном выше смысле) всегда сталкиваются с сопротивлением сторонников старого порядка вещей, связанных духовно или материально с прежними экстерриториальными социальными конфигурациями, с устоями внутренне разделенных территориальных сообществ. По мере развития этого конфликта соотношение сил постоянно меняется, исход борьбы на каждом этапе зависит от того, насколько глубоки перемены в самой жизни обществ (а не только в сознании тех или иных групп политической и культурной элиты). Постоянное тление этого конфликта — характерная черта незавершенной модернизации, при первом же кризисе оно дает вспышку.
Сохранение социальной архаики
Появление на мировой политической арене независимых среднеазиатских государств еще не означает, что государства-нации здесь сформировались. Скорее всего, пока можно говорить лишь о промежуточных и притом довольно ранних этапах складывания наций или, что почти то же самое, гражданского общества в бывших среднеазиатских республиках. В списке критериев самоидентификации таджиков О. Руа не случайно нет четвертого критерия, к которому в первую очередь прибег бы француз, если бы речь шла о нем самом. Даже не предполагается, что таджиком может себя считать всякий гражданин государства Таджикистан. До этого, конечно, еще далеко. Согласно переписи населения 1989 г., только 62 процентов его жителей считали себя таджиками, еще почти 24 процента — узбеками, около 8 процентов — русскими и т.д.14 Примерно то же характерно и для других среднеазиатских государств. Традиционные локальные интеграторы сохраняют здесь свою силу, ибо глубинные социальные структуры остаются, возможно, даже более архаичными, чем можно было ожидать при упоминавшемся выше довольно большом отставании в индустриализации и урбанизации. Промышленное и городское развитие, шедшее во многом за счет притока материальных и людских ресурсов извне и в целом повысившее уровень благосостояния среднеазиатских республик, в сочетании с советским государственным патернализмом
Некоторые демографические характеристики бывших советских республик Средней Азии и сопредельных стран на рубеже 80-90-х годов9
|
Страна |
Доля городского населения, 1990, % |
Ожидаемая продолжительность жизни, 1987—1992 |
Смертность детей до 5 лет, (на 1000 детей) 1987—1992 ^^ ^ |
Смертность детей до 1 года (на 1000 рождений), 1987—1992 ^^^ ^ |
Материнская смертность, (на 100 тыс. родов) 1987—1992 |
Коэффициент суммарной рождаемости, 1989 |
|
Узбекистан |
41 |
69 |
42,0 |
53,1 |
43 |
4,02 |
|
Киргизстан |
38 |
66 |
37,0 |
45,7 |
43 |
3,81 |
|
Таджикистан |
32 |
69 |
49,0 |
63,7 |
39 |
5,08 |
|
Туркменистан |
45 |
66 |
54,0 |
71,4 |
55 |
4,27 |
|
Россия |
74 |
69 |
20,0 |
24,0 |
49 |
2,02 |
|
Казахстан |
57 |
68 |
31,0 |
37,7 |
53 |
2,81 |
|
Турция |
64 |
67 |
54,0 |
68,9 |
146 |
3,7* |
|
Иран |
58 |
65 |
65,0 |
84,4 |
... |
6,3* |
|
Афганистан |
19 |
43 |
162,0 |
242,6 |
600 |
... |
|
Пакистан |
33 |
59 |
95,0 |
135,5 |
270 |
6,2* |
* 1987 год.
и неразвитостью рыночных отношений в определенном смысле даже консервировало уклад жизни коренного сельского населения. При всей его бедности, оно не знало угрозы разорения, не достигало той крайней черты, за которой массовая миграция в города становится безусловной экономической необходимостью. Деревня стагнировала, но силы выталкивания из нее были смягчены.
Это оберегало от разрушения традиционный уклад жизни и тормозило переход коренного населения в нетрадиционные, неаграрные отрасли экономики. Регулярно проводившиеся обследования показывали, что оно шло медленно (табл. 3). В 1987 году узбеки в Узбекистане и туркмены в Туркмении составляли 53 процента всех занятых в промышленности, таджики в Таджикистане — 48 процентов, киргизы в Киргизии — 25 процентов, казахи в Казахстане — 21 процент (соответствующий показатель для русских в России — 83 процента) 15. При огромном избытке трудовых ресурсов в регионе, промышленные предприятия нередко страдали от нехватки рабочей силы, не говоря уже о кадрах относительно высокой квалификации.
В той мере, в какой сохранялся традиционный, сельский уклад жизни, сохранялись и его институциональные формы: общинные структуры, пронизанные родовыми и семейно-родственными связями; ограничение самостоятельности индивида; неравноправное положение женщины; многодетность и пр. Социальный мир оставался иерархичным, социальные полномочия внутри него распределялись “по вертикали”. Семья, сельская община или городская махалля, государственные органы разных уровней служили звеньями социальной структуры, каждое из которых имело свою долю и свою область суверенитета. Такая структура генетически тесно связана с локальными племенными или регионально-клановыми корнями, которые в той или иной степени сохранялись повсеместно в Средней Азии. Они были скрыты от посторонних глаз официальным “социалистическим” фасадом, но при первом же серьезном кризисе должны были выйти наружу. Так произошло в Таджикистане. Но многократно описанная в последнее время клановая структура таджикского общества, обнажившаяся в связи с событиями начала 90-х годов, едва ли может считаться исключением для Средней Азии.
Империя не мешала архаике среднеазиатского социума, более того, была естественной формой государственной организации традиционных обществ, основанных на “вертикальном” распределении полномочий и суверенитета. Это было — и остается — еще одним препятствием для становления гражданского общества и государств-наций в Средней Азии. Существование и противостояние клановых элит препятствует возникновению национальной элиты, которой империя могла бы “мешать”. А это, в свою очередь, — следствие неразвитости экономических и прочих условий, способных породить достаточно сильные единые национальные интересы, противостоящие как локальным, так и имперским интересам. Локальные же и имперские интересы находятся на слишком большом расстоянии друг от друга, чтобы между ними могло возникнуть серьезное противостояние. Более того, локальные элиты, карабкающиеся на вершину близлежащей вертикальной пирамиды, как правило, ищут помощи и поддержки более далеких и более сильных соседей и сами приводят свои народы в состав империй.
Колониальный компонент социальной структуры
Непреодоленная архаика социальной структуры традиционных среднеазиатских обществ причудливо сочеталась с ее более современ- ным колониальным компонентом, связанным с присутствием многочисленного пришлого — “европейского”, русскоязычного, в основном русского населения. Его массовое проникновение в Среднюю Азию поначалу было следствием восточнославянской земледельческой колонизации, переселения крестьян в степи Севеpного Казахстана. Их освоение сыграло исключительно важную роль в том процессе, который обычно называется заселением Сибири. Степная зона была более удобной для заселения, чем таежная, поэтому правительство во второй половине XIX века все больше ограничивало землевладельческие права кочевых казахов, изымая “излишки” земли в колонизационный фонд. По оценке Покшишевского, за 1861–1914 годы “степь”, т.е. в основном Акмолинская и Семипалатинская области Казахстана и некоторые соседние районы Алтая, приняла 3 из 4,1 млн. переселенцев, причем доля степи все время повышалась, пpе-высив после стpоительства Сибиpской железной доpоги 70 процентов 16.
Такой стpемительный пpиток кpестьян из Евpопейской России не мог не изменить этнической каpты заселяемых ими земель. Казахское население в нынешних гpаницах Казахстана составляло, по оценкам, в 1870 году 2,6 млн. человек, в 1897 — 3,3 млн., в 1914 — 3,8 млн.17 Но его доля из-за массового пpитока пеpеселенцев уже в 1897 году составляла 74 процента, а к 1914 г. упала до 59 процентов, а в Акмолинской области опустилась ниже 37 процентов (пpотив 61 процента в 1897 году). Доля же pусских (в шиpоком смысле, т.е. великоросов, украинцев и белорусов) в 1914 году пpиблизилась к 30 процентам 18. Аграрная колонизация продолжалась и в советское время. Наиболее заметный эпизод — освоение целинных земель Казахстана. Между переписями населения 1959 и 1970 годов численность русских в Казахстане выросла больше, чем на 1,5 миллиона человек, или на 39 процентов (общая численность русских в СССР увеличилась за то же время всего на 13 процентов) 19.
Но все же в советский период приток “европейского” населения в Среднюю Азию был больше связан с пpомышленно-гоpодским pаз-витием. Ядром советской модернизации была ускоренная индустриализация. Как уже отмечалось, местное население участвовало в ней относительно слабо, вследствие чего подталкиваемая извне модеpни-зация привела к появлению значительной иммиграционной ниши. Она заполнялась населением европейской культуры, в основном pус-скоязычным 20, в некоторых случаях весьма значительным. В 1989 году русскоязычное население составляло почти четверть всего населения Средней Азии (24,3 процента, в том числе 19,4 процента русских), для Средней Азии без Казахстана соответствующие показатели
12,7 процента и 10,1 процента. В Киргизии русскоязычные составляли 25,6 процента, в Казахстане — 47,4 процента 21.
Оставаясь в поле влияния pусской культуpы, пришлое население мало интеpесовалось местными культуpами, иногда очень дpевними и богатыми, местное и пришлое, “европейское” населения были разделены культурно-языковым барьером. Если этот баpьеp пpеодолевался, то лишь в одном напpавлении: местное население обычно осваивало pусский язык, “pусскоязычные” местных языков не знали. Впрочем, не следует переоценивать и знание русского языка. Согласно переписи населения 1989 года, им в Средней Азии владели 23,3 процента узбеков, 27,7 процента таджиков, 35,1 процента киргизов, 27,6 процента туркменов, 20,2 процента каракалпаков — во всех случаях речь идет о меньшинстве. Что же касается живших в Средней Азии русских, то свыше 95 процентов из них заявили, что не владеют никаким другим языком народов СССР 22.
Между местным и пришлым населением Средней Азии существовали контакты на бытовом уpовне, но не очень глубокие. Об этом свидетельствуют, в частности, относительно pедкие смешанные бpаки. Скажем, в Киpгизии в 1989 году 48 процентов населения составляли не киpгизы, в Узбекистане 29 процентов не были узбеками. А в национально смешанные бpаки в этом году вступило всего 6 процентов мужчин-киpгизов, 6,5 процента узбеков 23, пpичем и в этих случаях пpеобладали бpаки не с pусскоязычными, а с пpедставителями куль-туpно pодственных соседних наpодов.
До определенного момента присутствие в регионе относительно изолированного русскоязычного населения не создавало особых проблем. Оно было чем-то вроде еще одного клана, что не противоречило духу среднеазиатских обществ, привыкших к внутренним перегородкам. Пришлое население в Средней Азии не пользовалось особыми привилегиями, условия жизни по некоторым параметрам часто были даже хуже, чем у местного. Проблемы стали появляться постепенно — вследствие модернизации, ускоренной именно деятельностью “европейцев”.
Происходившие изменения повышали социальную привлекательность самих новых областей деятельности, городского комфорта (пусть очень скромного здесь). Положение “европейского” населения, изначально теснее связанного с новой, престижной, в чем-то более легкой или кажущейся более легкой жизнью, начинало восприниматься как привилегия, как социальная несправедливость, усиливались открытые или замаскированные требования пересмотра сложившихся отношений и ролей. Социальные ниши утрачивали свою закрытость, внутри них нарастала конкуренция между пришлыми и коренными жителями. В конечном счете, началось более или ме- нее замаскированное вытеснение “колонизаторов”, что уже в 70-е годы привело к изменению характера миграционных потоков (см. табл. 4).
Смысл происходившего был осознан не сразу. Какое-то время даже некоторые специалисты полагали, что “возрастающее выбытие населения из трудоизбыточной Средней Азии... свидетельствует об улучшении миграционных процессов в СССР” 25 (предполагалось, что речь идет о повышении мобильности коренных народов и рациональном перераспределении “трудовых ресурсов” между перенаселенными и недонаселенными районами СССР). Но постепенно и у специалистов, и у местных властей стала нарастать тревога. Типичное свидетельство — выступление на пленуме ЦК Компартии Таджикистана ее тогдашнего первого секретаря К. Макхамова. “Во многих коллективах и даже в целых районах представителей некоренных национальностей остались единицы, кое-где их и вовсе нет. Ежегодно из республики уезжает все больше некоренного населения... Уезжают ценные, высококвалифицированные специалисты, научные работники, то есть люди, которые нам очень нужны” 26. Однако остановить начавшуюся “деколонизацию” было, по-видимому, уже невозможно.
Итоги и перспективы
В разные периоды российской, а особенно советской истории Средней Азии предпринимались немалые усилия, направленные на преодоление ее отсталости. Далеко не во всем они были безуспешными. Мы видели, как бывшие советские республики Средней Азии выгодно отличаются даже от более преуспевающих в других отношениях стран, таких, как Турция и Иран, не говоря уже об Афганистане и Пакистане, по показателям смертности (см. табл. 2). Еще более выигрышно сравнение уровней образования: в Иране 46 процентов всего взрослого населения (старше 15 лет) неграмотно, у женщин этот показатель поднимается до 57 процентов. Соответствующие показатели в Пакистане 65 процентов и 79 процентов, в Афганистане — 71 процент и 86 процентов 27. В республиках Средней Азии в 1989 году от 84 до 87 процентов населения старше 15 лет имели среднее или высшее образование, то есть, как минимум, окончили семилетнюю или восьмилетнюю школу.
В экономической и социальной структуре, в политике и культуре, в повседневной жизни Средней Азии — повсюду видны признаки “современности”, все более широкие слои коренного населения с детства усваивают демократические, гражданские, светские ценности. Быть может, в “современности” среднеазиатских обществ есть еще много поверхностного, внешнего, но и в этом случае ее не следует недооценивать. Грань между “внешним” и “внутренним” подвижна, одно переходит в другое, маска порой прирастает к лицу так, что их невозможно разделить.
В целом советская система несомненно смогла запустить механизм модернизации в Средней Азии. Но она не сумела довести ее до конца. Кризис модернизации в Средней Азии обнаружился не сразу. Поначалу казалось, что развитие идет успешно, возможно, так оно и было. Но успехов развития, приведших к нарушению традиционных равновесий, оказалось недостаточно, чтобы создать новую равновесную систему. В результате стали возникать динамические несоответствия, которые порождали множество трудноразрешимых проблем.
Отчетливо проявилась тормозящая роль взаимосвязанных и незавершенных индустриализации, урбанизации и демографического перехода, обернувшегося демографическим взрывом и рассогласованием демографического роста и динамики числа рабочих мест. После 1970 года общественное производство перестало поглощать прирост трудовых ресурсов, и они стали скапливаться в деревне, в подсобном сельском хозяйстве, мелком, неэффективном, страдавшем от отсутствия земли и воды. Средняя Азия все больше оказывалась в порочном круге воспроизводства бедности и отсталости.
В 70–80-е годы Средняя Азия столкнулась с проблемой, напоминавшей ту, перед которой СССР стоял в 20-е годы и которая тогда получила название проблемы “источников накопления капитала”. Речь шла об изыскании ресурсов для нужд ускоренной модернизации страны. Тогда эта задача была решена путем экспроприации крестьянства при сохранении очень низкого уровня жизни в городах. Тем не менее ресурсы оставались крайне ограниченными, в силу чего инвестиционная активность в 30–50-е годы распространилась в основном на те районы СССР, где капиталовложения могли быть использованы с наиболее высокой и быстрой отдачей. Средняя Азия не принадлежала к их числу. Не принесли ей решения проблемы инвестиционных ресурсов и 60–80-е годы.
Основной внутренний источник этих ресурсов — национальный доход. В 1985 году произведенный национальный доход на душу населения в Средней Азии составлял 1200 руб., на накопление расходовалось 350 руб. — и то и другое намного меньше, чем в среднем по СССР (соответственно 2080 и 550 руб.). На потребление оставалось в Средней Азии 850, в СССР в целом — 1530 руб.28. Если бы накопление за счет внутренних источников в Средней Азии поднялось хотя бы до среднесоюзного уровня, величина потребляемого национального дохода на душу населения сократилась бы до 650 руб. Рост инвестиций за
Доля коренного населения Средней Азии среди рабочих и служащих промышленности в 1967 и 1983 гг., %
Пока существовал СССР, часть ресурсов его более богатых районов перераспределялась в пользу Средней Азии. Но масштабы перераспределения никак не соответствовали потребностям среднеазиатской экономики. В 1985 году, если верить советским оценкам того времени 29, совокупный использованный национальный доход в Средней Азии (без Казахстана) превышал произведенный в регионе на 7 процентов. Для того, чтобы душевая величина используемого здесь национального дохода приблизилась к среднесоюзной, это превышение должно было быть в десять раз большим ( не 7 процентов, а 70 процентов). Нужно было бы систематически перераспределять в пользу Средней Азии около 5 процентов национального дохода, произведенного в других республиках СССР. Но все они были далеко не богаты, обескровлены огромными военными расходами и просто не смогли бы обеспечить своими ресурсами 30–40 млн. человек, расходующих на потребление и накопление в 1,7 раза больше своего национального дохода. А если учесть, что Средняя Азия была самой большой, но все же не единственной отсталой окраиной советской империи, то становится ясно, насколько задача изживания полуколониальной отсталости в СССР была далека от своего решения.
Впрочем, эта задача вообще не так проста, как может показаться в свете облегченной критики советского опыта. Западные экономисты, продолжая по инерции говорить о “тяжелом советском наследии”, понимают, что выход из состава СССР отнюдь не улучшил экономического положения его бывших азиатских республик. В начале 90-х годов торговый дефицит таких стран, как Казахстан или Киргизстан (соответственно 17,7 и 15,9 процента ВНП) достиг “уровня, невыносимого для независимого государства” 30. В отношении всех государств Средней Азии справедливо утверждение, что их переход к рыночной экономике и демократии “требует значительного поступления ресурсов извне” 31, то есть, по существу, упирается в ту же проблему “источников накопления капитала”. Совокупная экономика СССР не справилась с ролью экономического донора Средней Азии, кто справится с ней теперь? В бывших тюркских республиках СССР немалые надежды возлагают иногда на родственную Турцию, где, в свою очередь, существуют соответствующие интересы и планы в отношении постсоветских соседей. Но “даже если не считать вложений, необходимых для структурной перестройки их производственного аппарата, только их текущий дефицит, который, по грубым оценкам, составлял в 1988 году около 8 процентов ВНП Турции, намного превышает возможности турецкой экономики” 32.
При всей непоследовательности и незавершенности советская модернизация в Средней Азии зашла достаточно далеко, чтобы вызвать к жизни и расширить средние городские слои, способные отстаивать свои интересы, связанные в основном с современными устремлениями экономической, политической и культурной жизни. Но эти слои здесь еще немногочисленны и неразвиты, их самосознание расколото, отражает внутренний кризис традиционных среднеазиатских обществ.
С одной стороны, конкуренция за новые для них социальные статусы заставляла наиболее активные слои коренного населения перенимать многие черты образа жизни и идеологии пришлого населения, в них быстро увеличивалось число своих “западников”, русофилов, “коммунистов” (парадоксальным образом часто эти понятия выступали как тождественные), подчеркивавших по преимуществу положительные стороны развития в рамках империи-Союза и стремившихся лишь свободнее распоряжаться его плодами. С другой же стороны, сама природа нараставшей конкуренции требовала дистанцирования, оппозиционности по отношению к “колонизаторам”. Добиваясь перераспределения прав и полномочий в свою пользу как внутри республик, так и в масштабах всего СССР, автохтонные региональные элиты не могли пройти мимо такого мощного источника легитимизации своих требований, как традиционализм и этнический национализм. Кризис традиционного общества создавал для этого благоприятную почву: пробуждая защитные силы этого общества, он способствовал укреплению религиозного и культурного фундаментализма.
Однако и слишком активное использование этого козыря было небезопасно для местных элит. Они не были заинтересованы в отказе от достижений модернизации, уже успели вкусить от ее плодов, хотели не возврата к прошлому, а большей власти и независимости в настоящем и будущем. Средней Азии еще только предстояло пройти многие решающие этапы модернизации, “зонтик” советской империи, несомненно, облегчал эту задачу. Симбиоз модернизма и архаики, служивший питательной средой для роста местных элит, был во многом искусственным, поддерживался сильным имперским центром. С исчезновением этой поддержки хрупкое равновесие могло нарушиться, а умеренные традиционализм и национализм, служившие вспомогательной силой регионализма, могли радикализоваться, превратиться в передовую силу антимодернистской реакции и привести к вытеснению и даже уничтожению новых региональных элит и к приостановке модернизации в целом.
Впрочем, если бы этого и не произошло, самостоятельность, доведенная до выхода из состава СССР, все равно сулила не только приобретения, но и потери. Даже сохраняя власть в своих республиках и контроль над их экономикой, региональные элиты оказывались отрезанными от огромных ресурсов империи, на которые они привыкли смотреть как на свои. Людям, которые ощущали себя гражданами огромной евразийской империи и потенциально могли претендовать на любое место в ней, было что терять, окажись они в замкнутом пространстве небольших и бедных азиатских государств. Поэтому среднеазиатские политические элиты были ориентированы не столько на выход из империи, сколько на перераспределение в своих интересах влияния и власти внутри нее. Сепаратистские настроения в Средней Азии не были сильными, традиционалистски настроенная часть общества едва ли была способна самостоятельно подвести свои республики к выходу из Союза — во всяком случае тогда, когда это произошло на самом деле. Их выход из состава СССР в 1991 году был почти вынужденным.
Но и положение России в ее роли имперской метрополии по отношению к республикам Средней Азии к этому времени стало достаточно сложным. Их отпадение от империи грозило России серьезными экономическими, внутриполитическими, геополитическими и прочими осложнениями, которые не замедлили дать о себе знать. Здесь и разрыв хозяйственных связей, и потеря важных источников сырья, немалой части промышленного потенциала, десятилетиями создававшегося за счет “централизованных капиталовложений”, и судьба миллионов “русскоязычных”, живущих в этих республиках, да и местной пророссийски ориентированной элиты, и резкое сокращение демографического потенциала, и неизбежное усиление позиций мусульманских стран на южной границе России при вероятном обострении отношений с ними.
Однако, если бы республики Средней Азии остались в составе империи и СССР сохранился бы в той или иной форме, перспективы России были бы еще более тревожными. Опираясь на свой растущий демографический потенциал, постепенно модернизируясь, эти республики добивались бы все нового и нового перераспределения влияния и ресурсов в свою пользу. Это означало бы для России не только сохранение огромного экономического бремени, но и нарастание политического и социокультурного давления на нее. Она продвинулась намного дальше Средней Азии по пути “технологической” модернизации и подошла к осознанию новых для нее задач социальной модернизации: перехода к рыночной экономике, правовому государству, гражданскому обществу. В Средней Азии эти задачи еще не назрели. Если бы Россия и Средняя Азия оставались в составе одного государства, Россия из последних сил тянула бы Среднюю Азию вперед, а та, может быть, с не меньшей энергией тянула бы Россию назад, что долго бы еще тормозило общее движение. Так что в Беловежских соглашениях, при всей их небесспорности и внешней легковесности, несомненно нашел отражение и инстинкт самосохранения России, отпечатались ее глубинные современные интересы.
В свое время присоединение Средней Азии вызвало немалые надежды в России. “В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами, — писал Достоевский. — В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение... Она возвысит наш дух, она придаст нам достоинства и самосознания” 33. “В будущем Азия наш исход... там наши богатства, ...там у нас океан” 34. Понадобилось немногим более ста лет, чтобы имперский энтузиазм Достоевского сменился больным стоном Солженицына. “ Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас и высасывает, и ускоряет нашу гибель” 35. Россия стала уставать от своей “цивилизаторской миссии” и, в конечном счете, сама отделилась от Средней Азии. Но Средняя Азия при этом лишилась мощного локомотива развития.
Что ждет ее теперь? Как сложится судьба модернизации — главной оси, вокруг которой в любом случае будет вращаться вся проблематика развития региона в ближайшие десятилетия? Торможение модернизации, а в худшем случае ее приостановка, сопровождающаяся жесткой антимодернистской реакцией, почти неизбежны. Сразу же вслед за провозглашением независимости среднеазиатских государств
Сальдо межреспубликанской миграции в бывших республиках Средней Азии, 1951-1990, тыс. человек24
Не имея достаточной социальной базы внутри своих стран, более или менее модернистская элита может оставаться у власти только при наличии внешней поддержки и почти естественным образом будет вынуждена искать ее прежде всего в бывшей метрополии. Продолжение модернизации, таким образом, оказывается связанным с установлением прежних противоречивых “колониальных” или “неоколониальных” отношений. Разумеется, можно попытаться найти другую метрополию, но характер отношений с ней не будет принципиально иным.
Другой крайний вариант развития предполагает приход к власти традиционалистских элит и полную смену стратегии: стопроцентную “деколонизацию” ценой отказа от модернизации и вообще всех “западных” ценностей, возврат в прошлое, закрытость общества и пр.
На деле же, скорее всего, осуществятся (похоже, что уже осуществляются) различные смешанные варианты, комбинации разной сте- пени прагматического модернизма с коммунистическим, исламским, этническим или каким-либо иным фундаментализмом и опирающимся на него политическим авторитаризмом. Любой такой социальный кентавр будет в достаточной степени уродливым и не очень жизнеспособным, что сулит немало осложнений в будущем. Полностью избежать “кентавризма” не сможет ни одно среднеазиатское общество. Весь вопрос — в пропорциях, в каких модернизм удастся соединить с традиционализмом, с одной стороны, с неоколониализмом — с другой.
Список литературы Азия: незавершенная модернизация
- БСЭ, второе издание. Т. 40. С. 374; БСЭ, третье издание. Т. 24. С. 1117-1118.
- Hauner M. What is Asia to Us. Russia's Asian Hearthland Yesterday and Today. London -New York, 1992. P. 73.
- World Tables, 1994. World Bank, 1994.
- Труд в СССР. Статистический сборник. М., 1988. С. 16-17
- Social indicators of development 1994. World Bank, 1994.
- Население СССР 1987. Статистический сборник. М., 1988. С. 34-42.
- Козыбаев М. К., Абылхожин Ж. Б., Татимов М. Б. Казахстанская трагедия//Козыбаев М. К. История и современность. Алма-Ата, 1991. С. 225.
- Демографический ежегодник СССР. М., 1990, табл. 1.3.
- Кадыров Ш. В защиту традиций//СССР: демографический диагноз. М., 1990. С. 561-562.
- Мирский Г. Нация, этнос, религия в центральноазиатском контексте//МЭиМО, 1993. № 12. С. 6.
- Roy O. Fronti`eres et ethnies en Asie centrale//H€erodote, 1964. № 64. P. 179.
- Покшишевский В. В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. С. 170.
- Алексеенко Н. В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981. С. 47.
- Vichnevski A. L'Asie centrale post-sovi€etique: entre le colonialisme et la modernit€e//Revue d'€etudes comparatives Est-Ouest, 1995. № 4. P. 115.
- Коммунист Таджикистана. 1987. № 5. С. 36.
- Akagul Deniz, Vaner Semih. La Turquie et le monde turc: approches politiques et €economiques. La trimestre du monde, 1992, 4e trimestre. P. 173-174
- Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881)
- Солженицын А. Как нам обустроить Россию. М., 1991. С. 6-7.